«Часть золотого пути», или «Просто бездонная яма»?
О последней книге костромского поэта Юрия Бекишева «Бумажная архитектура»

Второе словосочетание, заключающее в этом заголовке очевидную антитезу первому, взято мною из чрезвычайно точной по колориту и вместе с тем богатой на метафору «Поездки к Державину», в которой, по правде говоря, совершенно не понятно, кто к кому приехал. В самом деле, Державин по-стариковски журит современных Бекишеву российских девушек за то, что они не на нём, а «на Диме Билане помешаны». Автор же, наш современник, по-свойски выговаривает тайному советнику екатерининского времени, что он совершенно напрасно привязал свой элегический «Водопад» к консервативному жанру оды, ибо теперь (?) композитору 19 века Бортнянскому никак не подобрать к нему соответствующую его духу музыку (для того же Билана). И этот изначальный дуализм приводит, в конце концов, к уместности как первого, так и второго смысла: поэзия русского поэта Юрия Бекишева в одно и то же время и «часть золотого пути», и «просто бездонная яма». Тем более, и первое словосочетание – тоже из Бекишева («Шествие»). Но именно второе – «просто бездонная яма» – является самым точным ответом на все вопросы, поставленные книгой «Бумажная архитектура» и предельно концентричным определением исходной философемы собственно бекишевского мироощущения:
Меня встретил старик Гавриила Романыч,
в мундире, в плисовых сапогах, в зелёном шлафроке
и колпаке…
Деревья, когда он смотрел вдаль, падали навзничь
и плыли вниз по реке,
а когда не смотрел – деревья стояли прямо,
как будто их выстрелили в небеса,
которые, как известно, просто бездонная яма,
свалка, куда падают души, покинувшие телеса.
Перевёрнутый мир – привычная для Бекишева точка отсчёта, где небеса – не купол, а яма, ибо души не возносятся, а падают. И это не снобистская придумка, не атеистическая ересь, это всего лишь реальное ощущение обыкновенного земного человека, у которого от усталости подкашиваются ноги, от страха сердце уходит в пятки, а от стыда очи опускаются долу. Просто и здания, и деревья, и птицы много выше земного человека, и всё, что он носит в себе и при себе, способно лишь падать к земле, в полном соответствии с законом всемирного тяготения («Деревья, когда он смотрел вдаль, падали навзничь»). А дальше – вознесёт или не вознесёт тебя к небесному куполу твоя одарённость («а когда не смотрел – деревья стояли прямо, будто их выстрелили в небеса»), – определится Временем. Впрочем, об этом мы ещё поговорим применительно к стихотворению «Рай».
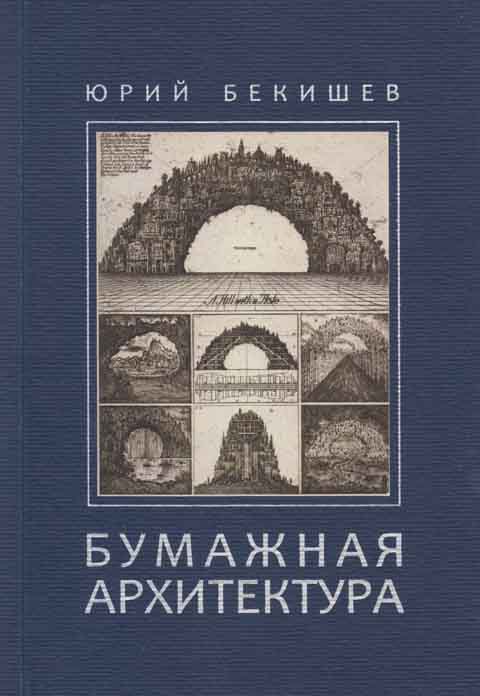
Что же до «части золотого», серебряного или бронзового пути, и есть ли он, путь, в принципе (?), то это проблема поэтического пространства вообще и значимости любой творческой индивидуальности в частности. Больше других на эту тему, вероятно, размышляли Пушкин и Блок, пути которых, разделённые веком российской действительности, удивительным образом всё плотнее смыкаются с течением времени в «единый музыкальный напор»… Частью его, безусловно, является и Юрий Бекишев, которого куда ни поставь, везде зазвучат лишь самые верные ноты.
Эти строки пишутся, когда до сорокового дня после Юриной смерти почти целый месяц, и его душе «до падения в небеса» ещё ох как далеко. В последний путь его провожала практически вся костромская интеллигенция, а поэт Александр Бугров сумел найти и прочесть на поминках кое-что из неопубликованного, хоть Бекишев и не писал уже несколько лет. Лежал в своей аккуратной комнатке, разговаривая лишь шёпотом, и всё думал, думал, думал. Жена Таня рассказывала, что иногда она включала диапроектор и он с удовольствием рассматривал репродукции картин своих любимых немцев и голландцев, французов и итальянцев, полотен из собраний Русского музея и Третьяковки. Живопись – после поэзии – его вторая страсть и часть основной профессии. И если чтение его очень быстро утомляло, то созерцать он мог бесконечно долго. Эта созерцательная долгота заключена уже в самом названии книги и в определяющем её лейтмотив одноимённом стихотворении – «Бумажная архитектура»:
Из пробоин в небе – пух и перья:
серафимы, видно, гневят Бога.
За кладбищем Лазаревским – поле,
по полю – железная дорога,
дале лес…
Однако, лейтмотив – это всего лишь «железная дорога» к станции. А вот на ней – довольно всего самого разного: от скучного зала ожидания до шебутного привокзального ресторана, от унылых облезлых пакгаузов до периодически оживляющегося пестротой одежд перрона. То эпохальное «Памяти Д.С. Лихачёва», то сиюминутное «На берег выйди, горсть песка возьми…», то полуявное и полусонное «Жара», то терзающее зрение своей чёткостью «Преображение», то грустно-шутливое «Пушкин и Нащокин», а то шокирующее шекспировской трагедийностью «Шествие». Не желая составлять здесь неких общих формул поэтической злобы дня и утомлять читателя скрупулёзностью ритмико-метрических наблюдений, остановлюсь на самых простейших комментариях некоторых стихотворений книги. Уверяю вас, они того стоят!
Вот начинающее книжку «На берег выйди…» На первый взгляд, лирическая замета из регулярно повторяющейся летней суетности: поэт предлагает внимательно всмотреться в случайно ухваченную горстку песка. Чего в ней только нет! «Чешуйки рыбьи, ракушки, слюда, и кварц, и перламутр…» Но, секунду-другую подумав, понимаешь, что всё это «из дальних стран и из времён далёких». Удивительно, но даже в образовании такой сиюминутной комбинации Бекишев наблюдает обязательное участие упомянутого выше дуэта Пространства и Времени, то есть стран и времён! Стоит ли удивляться тому поистине космическому заключению последнего четверостишия, из которого явствует, что запорошённые песком линии твоей руки продлевают общую летопись Мира?! В четырёх крохотных строфах – мудрость всей мировой философии:
…какие бы открылись письмена,
послания с отгадкой тайны вечной,
где строчка каждая хоть чуть, но продлена
судьбой твоей и жизнью скоротечной.
Как ни странно, но упомянутая выше «пляжная зарисовка» легко коррелирует с внешне формальным откликом на смерть крупного историка и литературоведа и, по всем канонам современной РФ, человека в значительной степени официального, знакового… академика Лихачёва. Стихотворение так и называется – «Памяти Д.С. Лихачёва». Всего три четверостишия трёхстопного ямба с традиционной перекрёстной рифмовкой – мужской и женской... Поэтическая пушинка, и только! А вывод о нашем демократическом времени опять-таки «приказывает» сердцу опускаться до пяток:
Усвоили урок
Ни хорошо, ни плохо…
Как соловецкий срок,
кончается эпоха.
По жизни Юрий Бекишев, как и Александр Блок, всегда оставался «живым поэтом» (С. Есенин). Поскольку он очень часто болел и зарабатывать мог лишь от случая к случаю, моя знакомая литераторша однажды подошла к мэру Костромы Борису Коробову и попросила его изыскать для Бекишева небольшую зарплату. «За что?» – спросил её заинтригованный мэр. «Просто за то, что он живёт в нашем городе… что он Поэт». Кажется, зарплату Юре не назначили, но пенсию по инвалидности он стал получать. Но это его, ещё совсем молодого мужчину, совершенно не обидело, поскольку он с удовольствием читал доставшиеся в наследство от родственников-библиофилов журналы «Русский инвалид», что легко переводится на современный как «Русский военный». И вот этот одухотворённый «военным довольствием» «живой поэт» написал навеянное в том числе и подобными метаморфозами стихотворение «Рай», которое я упоминал в самом начале. Представьте себе бездомную, озябшую насмерть собаку, которая обречённо спускается в подвал «с льдяных подмостков». Всё, «кончен путь земной», но:
…смотри, какое счастье:
хозяин здесь уже, весёлый и хмельной,
сидит в фуфайке в гулкой кубовой –
и поводок хрустальный на запястье.
Согласитесь, удивительное ощущение, должно быть, испытывает обречённое, измученное сиротством существо, почувствовавшее вдруг тепло растопленной кубовой и узревшее в этот же миг своего доброго хозяина с заветным райским поводком. И ничего ещё не кончено, а только лишь начинается! «Кому назначен чёрный жребий, над тем не властен хоровод», – замечал в преддверии эпохи массовых убийств Александр Блок. Да, власть людей (хоровода) над ушедшими в мир иной завершается, но есть ещё Всевышний и возможность преображения у врат Вечности. А хрустальный поводок – не привязь, а всего лишь Ариаднова нить. А собака, человек ли… Со времён египетских жрецов (тоже бекишевское наблюдение!) – никакой разницы!
Особое место в творчестве Бекишева, безусловно, занимают его поэтические интерпретации на историко-литературные темы типа приведённой в самом начале «Поездки к Державину» и походя упомянутого диалога «Пушкин и Нащокин». Первая фантасмагория, как уже отмечалось, содержит в себе незлобивый спор автора с корифеем екатерининской эпохи, придворным поэтом Гаврилой Державиным по поводу оды как жанра русской поэзии. Автор считает, что уже в эпоху Державина жанр устарел, и его «Водопад» на самом деле не ода, а чистой воды философская лирика, которую даже сегодня (на рубеже 20 и 21 веков!) можно было бы легко слушать в филармониях и концертных залах. Но «певец Фелицы» возражает в том смысле, что он сочиняет не увеселения ради, не для праздных девиц с завешенными золотом ушами. Для кого же? Это можно понять исходя из мефистофельских возможностей старика:
Ткнул в окоём пальцем, чего-то там починил или
покурочил,
сказал на прощанье:
«Было приятно, очень!»
По-хозяйски сорвал, как яблоко, какую-то млечную
звезду,
примостил на мою цивильную грудь.
Автор, путаясь с перепугу, бормочет в ответ уже «что-то вроде: «Рады стараться, ваш бродь!», а удовлетворённый Державин ответствует с высоты двухвекового опыта:
«То-то! И более не ругайте од,
коли не понимаете их семантику, и саму суть,
и вообще всю незнаемую вами в неведомое езду».
Последнее сочетание «неведомая езда» – явная перелицовка «езды в незнаемое» Владимира Маяковского. И это вполне понятно, ибо если Державин перелицовывал Горация, Пушкин – Державина, а Маяковский – Пушкина, то отчего бы Бекишеву не перелицевать – для пользы дела – Маяковского с Державиным, вместе взятых? А пользу от такой продуманной поездки в позапрошлый век переоценить трудно. Она – бесценна! Знаете, если бы мне вдруг вновь, как в молодости, пришлось читать студентам лекции по истории русской литературы 18-го или даже 19-го века, я бы непременно прибегнул к помощи историко-философской поэзии Бекишева. Кстати, более тонкий подход к раскрытию темы «пушкинской дружбы» помогла бы осуществить небольшая историческая зарисовка «Пушкин и Нащокин», в которой опять-таки варьируется тема ухода. Правда, на сей раз в нарочито шутейном стиле. Пушкин подыскивает часто хворавшему другу Нащокину место для могилки у себя в Михайловском, исходя при этом из того, что уж тогда-то им точно придётся лежать рядышком, «как двум неразлучным братцам». Но Нащокин вскоре поправляется и удаляется по своим мирским делам. А вот «заботливый» и чрезвычайно жизнелюбивый Пушкин, неожиданно для Нащокина, погибает на Чёрной речке, а потому:
Каждому своя стезя.
И шутить уже нельзя.
И лежат поодиночке неразлучные друзья.
Увы, шутейные пушкинские приколы в адрес лицейского друга – «подыскал тебе могилку» – так и остаются приколами. А досадливое ворчание Нащокина – «Полно! Что городишь! Не шути!» – неожиданно оборачивается проявлением некого досадного незнания тех неразрешимых проблем, которыми болел в 30-е годы его гениальный друг. Как известно, Пушкин не хотел отягощать ими даже Пущина («Мой первый друг! Мой друг бесценный!») Вот и лежит в гордом одиночестве под стенами Святогорского монастыря.
Но есть в представленной подборке ещё и третья вещь из этого же ряда: небольшая поэма «Пир» с эпиграфом из «Осени» Евгения Баратынского. Налицо вновь классический дуализм: бекишевский «Пир» формально является современной интерпретацией «Пиров» Баратынского, а «душа» в нём, включая эпиграф, цитаты и реминисценции, – из «Осени». Вот эпиграф: «…сажай гостей своих за пир затейливый, замысловатый!» Это начало десятой строфы произведения. А вот цитата из финального четверостишия «Пира» Бекишева: «Садись один и тризну соверши по радостям земным своей души!» Она из той же, десятой строфы «Осени», которая писалась Баратынским в аккурат в роковом для Пушкина 1837 году. Узнав о гибели друга по перу, поэт отбросил до этого легко дававшуюся ему «пиесу» и впал в тяжёлую депрессию. Дописывал он её в уже существенно ином состоянии и завершил полным отчаяния обращением к погибшему гению: «Перед тобой таков отныне свет, но в нём тебе грядущей жатвы нет». Взяв для своего «Пира» у «Осени» внутреннюю антитезу развития, Юрий Бекишев вместе с тем атрибутивно и по самой манере исполнения стиха исходил из «Пиров». Так, С. Шевырёв уже в 1837 году писал про «Осень» в «Московском наблюдателе»: «В этом глубокомысленном стихотворении сходятся два Поэта: прежний и новый, Поэт формы и Поэт мысли (…) Мысль, развитая далее и едва ли для всех доступная, есть следующая: чем ни закончилось твоё разочарование… знай, что ты не передашь тайны жизни миру. Её не может обнять земной звук. Сия тайна: «нам на земле не для земли дана…»
В конце 90-х годов прошлого века Юра поведал мне о своём тогда уже давнем открытии для себя Баратынского как поэта, вполне сопоставимого с самим Пушкиным, и стал мне читать поочередно то строки из «Осени» Пушкина, то целые строфы – из Баратынского. Я был потрясён! Впервые при сравнении Пушкин явно не выигрывал. Похоже, Бекишев носил в себе это ощущение уже многие годы. И лишь совсем недавно я узнал, что его «Пир» был написан в… 1978 году. В ту пору говорить о таком сравнении на какой-либо филологической кафедре было сродни заявлению на теоретической партконференции о том, что Ленин как философ гораздо легковеснее Бердяева и Каутского. Так вот, «Поэт формы» заставил Бекишева написать весь весьма обширный «Пир» всего несколькими «периодами», то есть очень длинными предложениями с множеством перечислений. А для того, чтоб не терять при этом динамики повествования, он обошёлся почти без знаков препинания и прописных букв. «Поэт мысли» искусно соединил в одном лирическом герое сразу два времени и соответственно два события: пир во времена Баратынского и пир во времена Бекишева. Причём, и там… «У Баратынского», и тут… «У Бекишева» все так славно выпили, что всё перемешалось: люди, залы, времена… Гусар и футболист, свечи и лампочки, бокалы с цикутой и четвертинки водки. Пир как в прямом, так и в переносном смысле буквально летел во все окна! Но всему, как водится, рано или поздно приходит конец, и у героя появляется чрезвычайно острое зрение:
и я один остался на весь пир
и с тем и с этим миром безутешен
и мне казалось что я наг и сир
и больше всех на этом свете грешен
Разные эпохи с их людьми и проблемами соединились в одном человеке, и он ощутил с ними физическое и духовное родство. И если не даёт отдохновения и счастья настоящее, его всегда можно позаимствовать у прошлого:
«Садись один и тризну соверши»
(закладка выпала – но томик сам раскрылся…)
«по радостям земным своей души».
Ты так хотел? – ты своего добился.
Однако завершает бекишевскую подборку, можно сказать, программная для поэта вещь, в которой начало жизни и уход из неё, Время и Пространство плотно соединены, как неразрывные части единого целого. Это историко-философская фреска «Шествие». Шествуют все некогда встречавшиеся на пути поэта люди: червонные цыгане, солдаты, мама в черевичках, вождь, тюремщики… А рядом в тёмном Времени плывёт холодное Пространство:
Треснули в печке колосники –
холодом тянет с великой реки.
Заперхал голубь, и пала тьма
На нашу улицу, наши дома.
Цыгане, подобно греческому хору в трагедиях Софокла и Еврипида, предупреждают о грядущих поворотах судьбы: «Тебе дорога дальняя, тебе деньги, тебе тюрьма!» Но ни то, ни второе, ни даже третье автора ничуть не пугает, ибо Время вполне стабильно, а Пространство – устойчиво:
– А в тюрьме плохо ли? – сиди себе да сиди:
ругай начальника да русалок накалывай на груди.
Ещё лучше затесаться в колонну солдат – «жить в палатках, есть кашу да песни петь». Но такое мироощущение появляется у человека только от лагерной монотонности существующего, очевидно, сталинского миропорядка: «Сесть в тюрьму или рекрутом стать?» Но всё меняется, когда в одночасье:
Время встало – ни снега и ни дождя…
Вдруг из трубы на столбе: «Не стало вождя!»
Как же так?
А я?
А сестра?
А все мы?
Ни дороги дальней,
ни денег
и ни тюрьмы!..
Так-то вот…
Канут в пространстве…
Время встало. Пространство кануло. Дуализм подводит нас к логическому выводу, который, уверен, Бекишев ни в коем случае не предопределял ни для себя как автора книги, ни тем более для её читателя. Созданная из бумаги архитектура оказалась недолговечной и просто загорелась ещё в стихотворении «Элегия»:
Не тешусь я, а ты надейся, друг,
что время не сгорит в гудящей топке –
свернётся трубкой, и из печки вдруг
порхнёт листок, один из целой стопки,
и, как зверёк, приткнётся к башмаку…
Сгорев же полностью, она, архитектура нашего времени, наша эпоха оставила по себе пепельный след – возможно, часть натоптанного, тернистого пути… канувшим в никуда «Шествием»:
Некуда будет идти…
То, что искали, – каждый обрящет,
а солнце
у всех на виду
на небо утащит
часть золотого, никем ещё не пройденного пути.
Так завершается последнее стихотворение этой подборки. Так завершился земной путь Юрия Бекишева, и вместе с ним – часть «золотого пути» русской поэзии.
В заключение этой статьи хотелось бы поговорить о том, что в последнее время особенно удручает в жизни провинциальной литературы. Феномен этой самой жизни, как и вышеупомянутого «Шествия», состоит в том, что ни того, ни другого в современной России де-факто нет. Теоретически (исходя из опыта прошлого) существует лишь обратный поэтический свет, которым может высветить подлинная поэзия имя своего создателя на обложке какой-нибудь солидной антологии или литературоведческой монографии лет этак через сто. Я, к примеру, недавно явственно увидел такое имя на титуле книги Бориса Бухштаба «Русские поэты» 1970 года издания, которой активно пользовался в эпоху застоя. Удивительно, но там, рядом с Афанасием Фетом и Фёдором Тютчевым, зиждились тиснёные золотом письмена – Юрий Бекишев («Какие бы открылись письмена»!) И сие примерно так и должно будет случиться, если и в самом деле, как говорили его более близкие предшественники, «рукописи не горят» и «время – вещь необычайно длинная». С одной несущественной поправкой: вместо Фета и Тютчева, допустим, будут Рубцов и Самойлов или Чухонцев, Прасолов и Кузнецов.
А если серьёзно, то в так называемую эпоху застоя едва ли не вся наша отечественная литература вышла из глухой русской провинции: Вологодской, Иркутской, Новосибирской, Архангельской, Кировской и N-ской областей. Думаете, сегодня там нет Белова и Рубцова, Распутина и Астафьева, Залыгина и Абрамова? Здесь не место спорить о причинах этого литературного геноцида русской провинции, в том числе и в Костромской области, где издаться и опубликоваться практически невозможно, невзирая на меру отпущенного Природой и Создателем таланта. Я уж не говорю о возможности хотя бы кое-как, впроголодь перебиваться литературным трудом. Есть у нас, конечно, чудаки, которые активно собирают металлолом, макулатуру и целлофан, сдают его и на вырученные средства худо-бедно издаются. Ну, а если тебя, как Юрия Бекишева, сполна наделивший поэтическим даром Господь совсем не порадовал здоровьем? Тогда остаётся уповать на удачу или, бросив и по большому счёту предав всё, перебираться в Москву или, на худой конец, в Питер. Перелицевав известный народовольческий тезис, могу с уверенностью констатировать: «Одарённый человек в праве на литературную судьбу в провинции мёртв!» Семидесятилетний Юрий Бекишев издал при жизни всего три малюсеньких книжечки: «Соседние миры» (Ярославль, 1990), Сны золотые» (Кострома, 1998) и «Бумажная архитектура» (Кострома, 2013). И скорее всего при проводимой нынешней властью внутренней политике, особенно в сфере культуры, больше ничего за подписью Юрий Бекишев издано не будет.
Иногда мне кажется, что если бы в своё время Юра дерзнул уехать в Европу или США, его имя сегодня упоминалось бы рядом с Бродским и Войновичем, Максимовым и Довлатовым. Но он, как и Рубцов, этого сделать просто не мог исходя из самой природы своего происхождения и воспитания, хоть никогда и не позволил бы себе такого эпатажного заявления: «Нам ведь не судьба, как разным прочим, запасную родину иметь». В этом был, есть и будет наш тяжкий русский крест.
Источник: Ты слышишь ли меня? Литературно-художественный альманах. – Вып. 4. – Кострома: Костромской государственный университет, 2020. – С. 150–170.