
ГЛАВА VIII
Щелыковские мотивы в творчестве А. Н. Островского
1
Александр Николаевич Островский — глубочайший знаток русской природы, пламенно и нежно увлеченный ею с юношеских лет.
Ему ведомы были все красивейшие уголки Подмосковья, которые он исходил как страстный рыболов и охотник вдоль и поперек. Его, истинно понимавшего все очарование Подмосковья, благодатного края заповедных рощ, пленительных речушек, живописных полян, пригорков и оврагов, крошечных, тенистых и многоводных прудов, трудно было удивить чем-либо новым.
Для этого требовалось что-то необыкновенное, из ряда вон выходящее. Нужно было чудо. И такое чудо нашлось. Им оказалось Щелыково.
4 мая 1848 года на третий день по приезде в Щелыково Александр Николаевич записал: «Каждый пригорочек, каждая сосна, каждый изгиб речки — очаровательны» (XIII, 187). Шесть новых дней пребывания в Щелыкове лишь усилили его первые впечатления: «Что за реки, что за горы, что за леса» (XIII, 187—188).
Пораженный первозданной роскошью щелыковской природы, Островский полюбил ее безоглядно и навсегда. С годами его увлечение красотами Щелыкова не уменьшалось, а усиливалось. Чем больше жил здесь драматург, тем роднее, милее и притягательнее становилась ему эта на самом деле сказочно-волшебная природа. И говорил он о ней лишь словами восторженного восхищения. Извилистую, капризно меняющую свое течение Сендегу, с ее причудливо разнообразными берегами, то дремуче запущенными, то безлесными, открытыми, то донельзя крутыми, высокими, глинистыми, то низкими, песчаными, Островский, по изустной легенде, называл трогательно-ласково — Сендегушка.
Покоренный редкостным своеобразием, национально-русской красотой привольно раскинувшихся перед ним пейзажей, Островский уже на четвертый день первого пребывания в Щелыкове уверял: «Здесь все вопиет о воспроизведении, а больше всего восхитительные овраги подле дома, перед которыми Чертов овраг в Нескучном саду очень незначителен, и живописные берега речки Сендеги, которым я не могу найти и сравнения» (XIII, 187).
И с той поры щелыковская природа вошла в круг основных источников творчества драматурга. Она явилась и могучим возбудителем его поэтической энергии, и средой, местом действия героев некоторых его произведений, и предметом их эстетического наслаждения.
***
Щелыковская природа органически вошла в творчество Островского и зацвела в нем всеми своими красками.
Вот хотя бы некоторые, наиболее разительные эпизоды ее участия в его пьесах. Трагедия «Гроза» открывается видом с правого высокого берега Волги на Заволжье. Кулигин, любуясь красотой расстилающейся за рекой панорамой, произносит:
«Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.
Кудряш. А что?
Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется.
Кудряш. Нешто!
Кулигин. Восторг! А ты: «нешто!» Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита» (II, 211).
Где это происходит?
Вероятно, на кинешемском берегу Волги, в прошлом самом высоком из известных Островскому волжских городов. С этой набережной и других высоких холмов, излюбленных местными жителями, заволжские просторы просматриваются на десятки километров.
Кулигин восхищается лесными урочищами Заволжья, пейзажами щелыковских окрестностей. Ими, по-видимому, восторгается и Лариса Огудалова в четвертом явлении первого действия «Бесприданницы». Она говорит своему жениху: «Я сейчас все за Волгу смотрела: как там хорошо, на той стороне! Поедемте поскорей в деревню!»
Этим видом люди любуются сегодня, будут восхищаться и завтра.
На 18-м километре Галичского тракта, если ехать из Кинешмы, имеется крутой поворот влево. При жизни драматурга здесь стоял столб с надписью: «Щелыково, имение гг. Островских». Эта «повертка», от которой шла колея на Щелыково, вполне возможно, явилась реальной основой для изображения Островским места встречи Несчастливцева и Счастливцева во втором действии комедии «Лес». Место этой встречи драматург рисует так: «Лес; две неширокие дороги идут с противоположных сторон из глубины сцены и сходятся близ авансцены под углом. На углу крашеный столб, на котором, по направлению дорог, прибиты две доски с надписями: на правой — «В город Калинов», на левой — «В усадьбу Пеньки, помещицы г-жи Гурмыжской». У столба широкий, низенький пень, за столбом, в треугольнике между дорогами, по вырубке мелкий кустарник не выше человеческого роста. Вечерняя заря».
Аркадий Счастливцев и Геннадий Несчастливцев встретились, по воле драматурга, на одной из «поверток» Галичского тракта, по которому они шли: один из Вологды в Керчь, а другой из Керчи в Вологду. Где же точнее они находятся? На это недвусмысленно отвечает Несчастливцев: «Ну, приду теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь». И далее: «Признаться тебе сказать, устал, а еще до Рыбинска с неделю пропутешествуешь» (действие второе, явление второе). Артисты встретились на пути, ведущем Несчастливцева в Вологду через Кострому, Ярославль, Рыбинск. Они недалеко от Волги.
Несчастливцев шел в Вологду от крайней нужды. С деньгами он бы туда не пошел. И вот почему, получив от Гурмыжской тысячу рублей, он изменяет свой маршрут. Этот новый маршрут весьма любопытен для определения местонахождения Несчастливцева. «Поедем мы,— говорит он Счастливцеву, — до Волги в хорошем экипаже, а потом на пароходе в первом классе». Несчастливцев явно находился где-то между Кинешмой и Костромой и собирался ехать по тогда тряскому Галичскому тракту, до первой пристани, а затем на пароходе в Нижний Новгород на ярмарку.
С щелыковскими наблюдениями драматурга связано и название усадьбы Гурмыжской. В пятнадцати верстах от Щелыкова располагалась усадьба А. Н. Григорова — Александровское, называвшееся также «Пеньки». Кроме того, селения «Пеньки» имелись в Варнавинском, Ветлужском, Галичском, Юрьевецком, Нерехтском и Костромском уездах Костромской губернии.
Царство леса, глухого, нехоженого, окружающего со всех сторон усадьбу Щелыково, вероятно, определило и символическое заглавие пьесы.
На правом берегу Куекши, примерно в полукилометре за мостом, ведущим в усадьбу, расположена красивая широкая поляна, окруженная со всех сторон лесом. В одном ее углу бьет родник, заполняя прозрачной водой деревянный шестигранный сруб, врытый в землю. От наличия серы вода в нем кажется голубоватой. Местные жители называли этот родник, а вместе с ним и самую поляну «Святой ключик». Уже в советское время артисты, отдыхающие в Щелыкове, наименовали ее «Ярилиной долиной».
Н. Н. Любимов и А. В. Бойцова, со слов стариков, говорили мне, что в стародавние времена, до Островского, над срубом высилась часовня, а вокруг часовни была загородь, и входили в нее через калиточку. «Ярилина долина» испокон веков была местом народных гуляний в Троицын и Духов дни. В эти праздники сюда сходились и съезжались крестьяне всей округи. Здесь прямо с телег бойко шла торговля бакалейными, «красными» и другими товарами. На поляне водили хороводы, пели песни. Тут бывали слепцы и сказители. Островский не пропускал этих народных увеселений. И. И. Соболев вспоминает, что «Островский приходил на гулянье со всем семейством, покупал гостинцев и оделял молодежь за их душевные песни и веселые пляски, ласково разговаривал с народом, шутил, смеялся»1.
«Ярилина долина» могла быть использована Островским для четвертого действия весенней сказки «Снегурочка». В этом действии счастливые берендеи справляют праздник любви, посвященный богу Яриле. Обстановкой действия «Снегурочки» послужила, разумеется, не только «Ярилина долина», но и вся щелыковская природа с ее роскошными полянами, вековыми лесами и вьющимися среди них серебристыми речушками.
По словам М. М. Шателен, ее мать — М. А. Шателен неоднократно подчеркивала, что прототипом Берендеевки была деревня Субботино и ее луг.
Вероятно, драматург имел в виду и так называемую «Стрелку». Это высокая гора на левом берегу Сендеги, против деревни Лобаново. С гребня горы, ныне заросшей лесом, открывался великолепный вид на окрестности, в частности и на деревню Сергеево. По изустным преданиям, слышанным Н. Н. Любимовым и другими жителями щелыковских окрестностей, здесь были устроены скамейки для сиденья и большая крытая беседка-гриб. По воскресеньям сюда собирались девушки и парни всех ближайших деревень и сел на гулянье — пели песни, водили хороводы, танцевали кадриль, отплясывали русскую. На «Стрелку», полюбоваться народным гуляньем, съезжались и некоторые владельцы близлежащих поместий. Особенно частым ее посетителем был Островский, прибывавший сюда со всей семьей на долгуше (повозка на длинном ходу. — А. Р.). Местные старожилы рассказывали мне, что он оделял ребят конфетами. Вспоминали также и то, что, отправившись на «Стрелку» в последние годы своей жизни, Александр Николаевич побоялся перейти по лаве (двум тонким жердочкам) через речку, и крестьяне дружно подхватили и перенесли его на руках.
Одним из красивейших мест щелыковских окрестностей являются так называемые «Гребни», расположенные на Галичском тракте, не доезжая до селения Малое Березово (после 25 километра от Заволжска, метров 200 вперед по тракту и около 400 метров вправо). Это место, использованное в 1969 году для кинокартины «Снегурочка», представляет восхитительный обрыв, с которого открывается чудесный вид вниз и широкая перспектива вдаль.
Творчески объединяя «Ярилину долину», деревню Субботино и ее луг, «Стрелку», возможно, «Гребни» и другие живописные места щелыковских окрестностей, Островский рисует сказочный пейзаж четвертого действия «Снегурочки»: «Ярилина долина: слева (от зрителей) отлогая покатость, покрытая невысокими кустами; справа — сплошной лес; в глубине озеро, поросшее осокой и водяными растениями с роскошными цветами; по берегам цветущие кусты с повисшими над водой ветвями; с правой стороны озера голая Ярилина гора, которая оканчивается острою вершиной. Утренняя заря».
Трагическая судьба Снегурочки вызывает глубокое сочувствие. И экскурсанты, созерцая голубое озерцо «Святого ключика» стали творцами новой легенды. Вырываясь из глубины, родник поднимает ил и создает впечатление трепещущего сердца. Воображение дорисовывает картину: на месте, где растаяла Снегурочка, образовался родник, на дне которого благодаря кристально чистой воде видно бьющееся Снегурочкино сердце. В. Лакшин, автор популярной, занимательно изложенной биографии А. Н. Островского, увлекаемый фантазией, пишет: «Испробуйте вымерить глубь колодца — трехметровая жердь уйдет вниз и не найдет дна», а в действительности глубина колодца «Голубого ключика» не более двух метров2.
Могучая, живописная, девственная красота щелыковских окрестностей, неизменно восхищавшая Островского, наполняла его теми чувствами благоговейного преклонения перед природой, которые с такой необычайной силой вылились в стихах «Снегурочки». Слова мудрого царя Берендея, любующегося красотой Снегурочки, являются восторженным гимном природе — плодоносной, неисчерпаемой в своих богатствах:
Полна чудес могучая природа!
Дары свои обильно рассыпая,
Причудливо она играет...
(«Снегурочка», действие 2-е, явление 5-е )
Пребывание Островского в Щелыкове, расположенном на севере нашей страны, где так часто хмурится небо и где особенно радуются теплу, солнцу, по всей видимости, вдохновило Островского и на создание той замечательной песни, которую поют берендеи в конце пьесы:
Даруй, бог света,
Теплое лето.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше.
Краснопогодное,
Лето хлебородное.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше.
Уже говорилось, что не только проселочные дороги щелыковских окрестностей, но и Галичский тракт находились во времена Островского в безобразном состоянии. Об этом неоднократно упоминает драматург в своих письмах. Эта деталь щелыковских обстоятельств нашла отражение в реплике Боева из пьесы «Дикарка». «Да вот,— говорит он,— кстати — о путях сообщения! Вы дайте прежде возможность приезжать к вам, да потом уж и приглашайте. Вот мы сейчас ехали к нам, так на Берендеевом мосту чуть было жисти своей не решились» (действие 2-е, явление 2-е).
О непроезжей дороге ведет речь и ямщик из неоконченной шутки «Накануне отъезда». Лизавета Андреевна, жена помещика, спрашивает ямщика о дороге: «Что же, плоха разве?» — Ямщик отвечает ей: «Да что тут «плоха». Кабы плоха, я б и говорить-то не стал. Плоха-то она у нас завсегда. Не то что плоха, а «не накажи, Господи!» — вот как надо сказать. Что тут муки, что проклятиев!». В разговор барыни и ямщика вмешивается горничная Таня и с упреком говорит: «Ямщики всегда на дорогу сваливают». Это до крайности обижает ямщика, и он произносит целый монолог: «Попробуй, поди-ко! Да, умна ты больно! Нет, уж тут господа-то в земстве не мало голову-то ломали. Нет никакой возможности. Конца-то никак не найдут, откуда за нее взяться-то! Нет, уж тут не мало думано. И чинить было пробовали; так не в пример хуже стала. Одно дело теперь: поставить заставу, да на столбе и написать, что нет, мол, проезду ни конному, ни пешему. А там, как знаешь, хоть по-птичьему летай».
В комедии «Дикарка» упоминается местность «Кокуй». Реальным источником этого названия послужила небольшая деревенька Кокуйки в четыре дома, находившаяся в трех-четырех километрах от Щелыкова, ныне не существующая.
2
Щелыково являлось для Островского источником, питающим его творчество не только картинами неповторимо прекрасной природы, но и человеческими характерами.
Будучи истинным реалистом, он руководствовался следующими принципами: «для того, чтобы хорошо изображать жизнь, надо ее видеть» (XVI, 167); «драматические произведения есть не что иное, как драматизированная жизнь» (XII, 321). Передавая свой творческий опыт драматургу Н. Я. Соловьеву, Александр Николаевич советовал ему: «Старайтесь захватить больше жизненной правды» (XV, 112).
Пьесы Островского имеют своей основой подлинную жизнь, действительные характеры, события и факты. Он всегда писал лишь о том, что не только видел, но и серьезно, всесторонне изучал.
Щелыково самыми тугими узами связывало писателя с жизнью, с изобилием человеческих характеров. Приезжая сюда, он оказывался в гуще труда и быта, тревог и радостей своего народа. Перед ним раскрывалась жизнь самых разнообразных общественных слоев.
Уже через несколько дней по приезде в Щелыково в 1848 году ему стало ясно, что художественного воспроизведения, кроме великолепной природы, требуют и замечательные люди труда, их нравы, обычаи, быт. Чем глубже, полнее, всестороннее познавал Островский простой народ, тем больше убеждался в правоте своих первоначальных наблюдений и впечатлений. Пребывание в Щелыкове открывало Островскому неисчерпаемые возможности для творческих наблюдений не только над крестьянами, о чем уже говорилось, но и над поместным дворянством. По обеим сторонам от Галичского тракта были разбросаны большие и малые усадьбы, «дворянские гнезда». Более или менее близкими соседями драматурга по Щелыкову, кроме упомянутых ранее, являлись помещики и помещицы — С. Г. Сабанеев (село Угольское), Н. Н. Молчанова (село Покровское), А. Н., И. А., И. Н. Григоровы (Ново-Покровское, Березовка). Всех этих помещиков Островский знал, с одними из них был просто знаком, с некоторыми дружил. С Г. Н. Вишневским, П. Ф. и Н. Ф. Хомутовыми, М. А. Григоровым, Д. П. и М. П. Яковлевыми и В. С. Дмитриевым драматурга сблизили годы совместной деятельности в Кинешемском земстве3.
Островский внимательно присматривался к характерам, нравам, быту окрестных помещиков. Эти наблюдения он переосмыслял, процеживал, перерабатывал в своей творческой лаборатории и наиболее типичное переносил в пьесы. О том, что для некоторых персонажей пьес Островского пригодились и его наблюдения над помещиками щелыковских окрестностей, уверял М. А. Григоров, частый собеседник драматурга. Об этом рассказывала его супруга Анна Николаевна ныне здравствующему А. А. Григорову, ее внуку. Но он уже не помнит фамилий этих помещиков.
Приезжая в Щелыково до 1861 года, Островский становился очевидцем деспотизма помещиков и полной беззащитности крепостных крестьян. Чтобы это наблюдать, писателю не нужно было даже и ходить далеко. Всячески измывалась над своими крепостными ближайшая соседка Островских мелкая помещица Белехова. По 10-й ревизии за ней числилось в деревне Тимино шесть душ мужских и шесть женских. Обладавшая огромной физической силой, она собственными руками избивала крепостных до увечий. Н. Н. Любимов в присланных мне «Пояснениях про помещицу Белехову Ирину Андреевну» описывает такой случай. Его родной дед по матери, Василий Семенович Груздев, задержавшись на перевозе и, вероятно, немного выпив в Кинешме, прибыл к своей помещице с запозданием. И вот рассвирепевшая крепостница «схватила его одной рукой за ворот и выбросила как котенка из телеги, а коленом своей ноги надавила на шею сидящего Василия Семеновича и ее повредила».
Кстати сказать, эта грубая и невежественная крепостница отличалась фанатической религиозностью. После нее осталось 20 простых небольших икон. Вероятно, именно И. А. Белехова послужила для Н. Н. Островской прототипом властно-деспотической, жестокой, злопамятной, лицемерной мелкой помещицы Хионии Аристарховны в повести «Глаша»4. Много позже, в 1873 году, Александр Николаевич как душеприказчик выхлопотал бывшим крепостным И. А. Белеховой принадлежащую им землю. В этом ему помогал костромской литератор П. И. Андроников. В благодарственном письме к нему драматург 14 октября писал: «Также благодарны Вам и наследники Белеховой, испытавшие некогда всю тяжесть ее барской руки и получившие, наконец (и то благодаря моим настояниям), мзду за свою рабскую безответственность» (XV, 22).
В той же деревне Тимино жила и другая помещица — А. Н. Белехова, также нещадно избивавшая своих крепостных. По 10-й ревизии она владела только одной девкой, над которой измывалась без милосердия.
Необузданно жестоким и своевольным обращением с крепостными славилась богатая, полусумасшедшая помещица, девица Н. Н. Молчанова, имение которой, Покровское, находилось всего в четырех километрах от Щелыкова. В ее владении было 23 дворовых и 80 крестьян5.
Пользуясь изустными преданиями, Евдокия Виссарионовна Титова, проживавшая в Покровском, рассказывала мне в 1957 году, что Молчанова даже за малую провинность приказывала обряжать крестьян в лохмотья и водить по деревне. Н. Н. Любимов, тоже по дошедшим до него воспоминаниям, передавал мне, что Молчанова страстно любила кошек, которых у нее было до 30. За кошками ухаживала специальная прислуга. Когда хоронили Молчанову, то кошки шли за гробом и мяукали, а потом расцарапывали ее могилу. Чтобы охранить могилу от кошек, пришлось обложить ее каменьями. Ненависть крестьян к Молчановой выразилась в том, что они могилу ее разрыли и надгробный камень свалили. Родившаяся в начале XIX века Молчанова жила, как передавала мне Елена Ивановна Аполлова, жительница села Покровское, около 90 лет.
Полусумасшедшая Молчанова, возможно, в какой-то мере, послужила прототипом барыни из трагедии «Гроза».
По семейным воспоминаниям, дошедшим до А. А. Григорова и любезно сообщенным автору этих строк, особенной прижимистостью по отношению к крестьянам отличались помещик Варфоломеев (усадьба Панькино, на реке Мера, в 10 верстах от Щелыкова) и миллионер-фабрикант Тихомиров (усадьба Пылайка в 10 верстах от Щелыкова). Тихомиров неукоснительно строго следил за тем, чтобы крестьяне не заходили в его лес и не собирали в нем ни грибов, ни ягод. По любому случаю, нарушающему его ни с чем не сообразные приказы, он обращался к уряднику и требовал наказания крестьян.
В окрестностях Щелыкова жили и еще более жестокие помещики. По словам стариков, некий помещик, на земле которого находился колодец, требовал за каждое ведро воды отработки на жатве6.
Нет сомнения в том, что пьеса «Воспитанница», в которой изображена бесправная, безысходная, «желтенькая», по выражению дворецкого Уланбековой, жизнь крепостных под властью помещиков, в значительной мере выросла из щелыковских впечатлений драматурга.
Щелыковские наблюдения Островского легли в основу картин крепостнических отношений, введенных им и в другие пьесы. Известно, что сюжетной основой пьесы «Волки и овцы» явился нашумевший судебный процесс игуменьи Митрофании, происходивший в октябре 1874 года. Но творчески перерабатывая материал судебного процесса, Островский перенес место действия в дворянско-поместную среду и вместо игуменьи создал образ помещицы Мурзавецкой. Рисуя живой образ властной, жестокой, грубо-деспотичной бывшей крепостницы, Островский мастерски использовал такую деталь, как ее костыль. В четвертом явлении первого действия комедии «Волки и овцы» помещица Мурзавецкая проходит мимо своих бывших крепостных, которые обмениваются между собой такими репликами:
«Староста. Ах, матушка! Дай ей, Господи! Создай ей, господи!.. И костылек-то все тот же.
Подрядчик. Разве помнишь?
Староста. Да как не помнить? Тоже, как крепостными-то были...
Подрядчик. Так хаживал по вас?
Староста. Еще как хаживал-то!»
Крепостная деревня нашла свое отображение и в других пьесах Островского, уже нами указанных, в особенности в «Воеводе».
Более полно драматург воспроизводил в своих пьесах пореформенную эпоху. В эту пору наиболее отчетливо проявилось экономическое и духовное оскудение поместного дворянства. Под натиском бурно развивающегося капитализма дворянские гнезда дробились, распадались, вымирали.
Совершенно закономерно, что Островский, всегда стремившийся откликаться на актуальные вопросы своего времени, внимательно присматривался к процессу оскудения дворянства. Его щелыковские наблюдения над дворянским распадом особенно явственно сказались в таких пьесах, как «На бойком месте», «Лес», «Волки и овцы», «Дикарка».
Для обрисовки взаимоотношений Аннушки, сестры содержателя постоялого двора Бессудного, и помещика Миловидова из пьесы «На бойком месте» драматургом могли быть использованы местные мезальянсы. М. Г. Олихова, соседка по Щелыкову, хорошо знавшая Островского, вспоминает: «Дворянство кругом тогда уже разрушалось. Многие стали устраивать «мезальянсы», один из наших женился на акушерке. Пожалуй, здесь Александр Николаевич мог видеть немало картин и нашего разрушения, и нашего быта...»7. На повивальной бабке женился владелец Угольского — Н. А. Рылеев. А. А. Григоров сообщил мне, что на собственной горничной из крепостных женился А. И. Григоров, на крепостной женился также его дед — И. А. Григоров.
В конце тридцатых годов щелыковско-кинешемские старожилы рассказывали мне, что, по изустным преданиям, для образа Миловидова из комедии «На бойком месте» драматург во многом воспользовался характером и жизненной судьбой кинешемского телеграфиста. Что здесь имелось в виду — трудно судить. Но важно то, что современники драматурга знали прототипов его пьес, интересовались ими.
Образ Боева, ученого человека, математика, занимающегося астрономией, в какой-то мере навеян знаменитым астрономом Ф. А. Бредихиным, проводившим летние месяцы в усадьбе Погост.
Щелыковская обстановка, ее природа подсказала драматургу тему и образы комедии «Лес». Горные увалы и густолиственные дремучие леса тесно обступали большую дорогу Галичского тракта и стояли плотной, непроницаемой стеной. В этом лесу жили «совы и филины» поместного дворянства, постепенно вытесняемого купцами Восьмибратовыми.
«Зачем мы зашли,— говорит Несчастливцев Счастливцеву,— как мы попали в этот лес, в этот сыр-дремучий бор? Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Что им мешать! Пусть их живут, как им хочется! Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов, молодые девушки топятся от горького житья у своих родных: лес, братец» (действие 5-е, явление 9-е).
Эта тирада Несчастливцева в значительной своей части — плод изучения драматургом быта помещиков щелыковских окрестностей. Восьмибратов в беседе с Гурмыжской говорит: «Да чтоб уж вам весь его продать. Куда вам его беречь-то!.. Ведь с лесом, сударыня, поверите ли, только грех один; крестьянишки воруют,— судись с ними. Лес подле города, всякий беглый, всякий бродяга пристанище имеет, ну, и для прислуги тоже, для женского пола... Потому как у них грибной интерес и насчет ягоды, а выходит совсем напротив» (действие 1-е, явление 6-е).
Каждое слово этой речи Восьмибратова выросло из наблюдений Островского над усадебным бытом. При этом он использовал свои впечатления о жизни и в соседних имениях, и в самом Щелыкове. Ему, например, известно было, что еще при его отце какой-то бродяга пробрался в главный дом усадьбы, но был изловлен на месте кражи.
Возможно, что Островский использовал в своих пьесах и фамилии, услышанные им в Щелыкове. Так, в комедии «Дикарка» действуют Зубарев и Мальков. В деревне Горки, а также и других встречалась фамилия Зубаревых, а в деревне Ладыгино фамилия Малковых.
3
Наряду с распадом дворянских гнезд, зоркий глаз художника отмечал и рост капиталистического предпринимательства, развитие буржуазии. По рекам Сендега и Куекша еще в дореформенное время, продолжая почин Данилы Земского, основавшего в 1752 году при селе Адищеве бумажную фабрику, начинают открываться небольшие фабрички для выделки бумаги и картона. Так, неподалеку от Щелыкова существовали картонно-бумажные фабрики в селе Покровском (на реке Сендеге)8, в Адищеве (В. С. Щеколдина), в Александровском (Распопиной, на реке Медозе).
И. А. Белехова в письме к А. Н. Островскому от марта 1870 года упоминает Рылеевскую бумажную фабрику, которая располагалась в Подлужье. Эта фабрика ранее принадлежала Кутузовым. Одна из таких фабрик для обработки оберточной бумаги в 40-е годы была даже в самом Щелыкове, на реке Куекше. Ее ветхие остатки Островский должен был видеть еще в первый свой приезд в усадьбу.
Фабрички бумаги и картона в особенности развиваются в пореформенную пору. Островский «часто,— вспоминает М. Г. Олихова,— посещал писчебумажную фабрику В. С. Щеколдина, любил смотреть на работы и интересовался фабричным производством»9.
На глазах у Островского старинные дворянские поместья и вековые леса скупались буржуазными предпринимателями, промышленниками, купцами. Так, например, в 1878 году в Ивашевской волости, в которую входило и Щелыково, помещичьи земли купили Федор и Александр Никитичи Витовы и В. С. Щеколдин. Подобные приобретения купечеством дворянских земель в дальнейшем увеличивались10.
Жадность Витовых не знала границ. Н. Н. Любимов вспоминает, что если сирота просила у Александра Витова покосить в лесу 5 — 10 пудов травы, то он требовал с нее 2 — 3 дня работы с косой или граблями, а за дрова, кроме платы, заставлял чистить лес, но «без топора и пилы».
Приход в лесную глухомань на смену волкам феодально-крепостнической формации волков капиталистического образца Островский особенно ярко воспроизвел в пьесах «Лес» и «Волки и овцы».
Драматургу, знавшему в качестве гласного уездного земского собрания и почетного мирового судьи едва ли не всех кинешемских помещиков, несомненно приходилось наблюдать, как грубые феодалы-крепостники принуждены были отступать перед еще более хищными, цинично-наглыми, но внешне вылощенными стяжателями буржуазно-промышленного облика. Об этом он написал комедию «Волки и овцы».
Именно в этой пьесе Островский отразил развитие в окрестностях Щелыкова бумажных заводов. Мурзавецкая, героиня комедии, рассказывает Чугунову, как ее братец «стал бумажный завод строить» (действие 1-е, явление 9-е).
Возникновение и рост буржуазии отражается и в комедии «На бойком месте». Жители щелыковской округи уже давно и упорно связывают не только место действия, но сюжет и героев этой комедии с Галичским трактом. Вдоль этого тракта в старину были разбросаны «бойкие места», то есть кабаки, или «питейные дома». Один из таких перепутных кабаков Островский и изобразил в своей пьесе. Старожилы уверяли, что этот кабак стоял неподалеку от щелыковской «повертки», и показывали мне в 1955 году выше «повертки», по направлению к Кинешме, огромные ямы — следы местонахождения этого кабака. Крестьяне были правы. «Питейная лавка и постоялый двор» располагались в двух верстах от щелыковской «повертки» и входили в состав поместья Островских11. Именно о них 24 марта 1869 года упоминает М. Н. Островский в письме к драматургу: «Если нужно, продай кабак,— я на это согласен»12.
В диалогах между Бессудным и Раззоренным, Бессудным и Евгенией неоднократно упоминается село Покровское, которое находится в четырех километрах от Щелыкова. В пьесе называется и Новая деревня, соседствовавшая с усадьбой драматурга13.
Но Островский, как и всегда, пользуется этими жизненными фактами не натуралистически, а творчески. Он подчиняет их конкретным задачам, которые им решаются в пьесе. Действительное расстояние между селом Покровским и Новой деревней — пять километров, а в пьесе ямщик Раззоренный в беседе с трактирщиком Бессудным говорит: «Я в Покровском на сдачу взял до Новой деревни... Перегон-то восемьдесят верст...» (действие 1-е, явление 1-е). Островский воспользовался лишь названиями географических пунктов.
Старинные предания, живущие в щелыковской округе, связывают Бессудного, содержателя постоялого двора из пьесы «На бойком месте», с местным разбойником Михаилом Титовым, а Жука, работника Бессудного, с известным в этом районе купцом Нарышкиным, разбогатевшим грабежом. Нарышкин и его два брата выходцы из крестьян села Семеновское. Несомненно, что эти предания Островский слышал уже в самые первые приезды в усадьбу. Н. Н. Любимов мне рассказывал: «Я помню Михаила Титова, дорожного грабителя. Он мне шил жилетку, когда мне было 10 лет. Титову было в это время лет 60, он уже воровством не занимался, а стал портным».
Сюжет комедии «На бойком месте» явился результатом творческого сплава многих наблюдений и впечатлений Островского. Но его основой послужили воспоминания местных старожилов о кабаке на Галичском тракте и собственные впечатления драматурга об одной забавной встрече в 1856 году на пути из Осташкова во Ржев. В дневнике путешествия по Волге драматург записал об этом случае так: «В Ситкове содержатель постоялого двора, толстый мужик с огромной седой бородой, с глазами колдуна, не пустил нас; у него гуляли офицеры с его дочерьми, которых пять» (XIII, 227). По выбору пускает проезжих и Бессудный в комедии «На бойком месте». В самом ее начале, обращаясь к Бессудному, Жук говорит: «Проезжие позываются! Да, кажись, народ-то такой, что пущать не стоит». На это ему Бессудный отвечает: «Так и не пущай! На что нам дряни-то! Только место занимают, а корысти-то от них немного. Постой, я пойду сам погляжу» (действие 1-е, явление 2-е).
Для изображения бюрократическо-карьеристского дворянства, вроде Бакина из комедии «Таланты и поклонники» или Мурова из драмы «Без вины виноватые», Островский мог пользоваться своими наблюдениями над лицами, подобными А. Н. Куломзину. В. Бочков и А. Григоров, вероятно, не грешат против истины, когда пишут: «Создавая в своих пьесах образ молодых, быстро делающих карьеру чиновников, Александр Николаевич порой придавал им черты, присущие Куломзину»14.
4
Островского справедливо считают непревзойденным знатоком московской речи, но источники языка его художественных произведений не ограничивались Москвой. Острый интерес к слову проявлялся им в любом месте его пребывания. 27 июня 1860 года, находясь на пути в Одессу, он пишет своим друзьям: «Между Тулой и Ефремовым нам попался очень веселый ямщик, Матвей Семенович Раззореный, который водку называл гарью, шкалик — коробочкой» (XIV, 77). Фамилию веселого ямщика драматург применил в комедии «На бойком месте».
Широкую струю в словарном богатстве Островского представляет костромской говор, познававшийся им главным образом в беседах с крестьянами щелыковских окрестностей. Еще в 1848 году, воспроизводя свою дорожную встречу с девушкой на постоялом дворе, драматург записал: «Разговаривали мы с ней часа два. Молоденькая, белокуренькая, черты тоненькие, а какой голосок. Да выговор-то наш (то есть костромской. — А. Р.), так и поет» (XIII, 181). Следы северного (костромского) говора в пьесах Островского несомненны. «Приедет бывало,— вспоминает Дуня из «Бедной невесты» свою жизнь с Беневоленским,— пьяный да олаберный, — так как обеснующий какой». «Немой алабор или алабырь,— читаем мы у Даля,— костромское бранное: бестолковый; косноязычный; немой».
Небезынтересно отметить, что уличная певица из комедии «Шутники» исполняет романс Пушкина «Под вечер, осенью ненастной», внося в него особенности простонародного северного (костромского) говора.
У Пушкина:
Под вечер осенью ненастной,
В пустынных дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
Певица же поет этот куплет так:
Под вечер осенью ненастной,
Пустынным дева шла местам,
И тайный плод любви несчастной
Держала трепетным рукам.
(Действие 2-е, явление 4-е.)
Для северного говора, как известно, характерно окончание творительного падежа, сходное с дательным падежом, что мы и видим в данном случае.
Северный (костромской) говор отразился в «волжских» пьесах Островского и оканьем действующих лиц. Так, например, в комедии «Воевода» Ульяна говорит: «А дай-ко вам потачку».
Кажется, прямо из окружавшего его по летам щелыковского быта выхвачена Островским следующая сценка, внесенная им в пьесу «Дикарка». Отвечая на обвинение Вертинского в том, что он отказывается принять обязанности почетного мирового судьи, Боев утверждает: «Не могу против принципа. У меня принцип — не осуждать никого.
Вершинский (пожимая плечами). Не осуждать пьяниц и воров! Странные принципы!
Боев. А как бы вы думали! Да и при том я очень жалостлив. Ну, представьте меня, красну девку, судьей! Вызывается Глеб Архипов.— Вы Глеб Архипов? — Мы. — Украли вы топор у Егора Афанасьева? — Точно, батюшка, ваше высокоблагородие, Михайло Тарасыч, я его... топор этот взял. Как перед Богом, так и перед тобой — все одно. Что уж, ежели...— И заложили в кабаке? — И заложили.— Как же вы это сделали? — Вот что, батюшка, ваше высокоблагородие, господин прокурон! Накануне-то мы праздновали, моленье, значит, у нас; ну, обыкновенно, очнулись на другой день; ну, она, душа-то и горит... (Зубареву.) Скажи на милость, ну, как я его осужу! Ты только подумай, каково человеку, когда у него душа горит!». (действие 2-е, явление 2-е).
Эту изумительную по правдивости и колориту речь крестьянина можно было изобразить, только находясь долгие годы в деревне и прислушиваясь к языку ее жителей.
Кстати сказать, А. В. Бойцова, внучка А. В. Куликова, слуги Островских, рассказывала мне о своем дяде Александре, «пьянице и пропивохе», который «так загуляет, что и топор пропьет».
Великолепное знание крестьянского языка Островский обнаруживает и в изображении ямщика из незаконченной им шутки в одном действии «Накануне отъезда»15.
Отражая в своих пьесах окружавшую его в Щелыкове жизнь, Островский творчески применял наблюдения и над своими спутниками по рыбной ловле. Так, например, в лице мещанина Аристарха из пьесы «Горячее сердце» отчетливо проступают особенности характера и языка, присущие писарю Ивашевской волости В. И. Верховскому. В третьем действии этой пьесы Аристарх сидит на пристани и ловит рыбу, приговаривая: «Ишь хитрит, ишь лукавит. Погоди ж ты, я тебя перехитрю. (Вынимает удочку и поправляет.) Ты хитра, а я хитрей тебя; рыба хитра, а человек премудр, Божьим произволением... (Закидывает удочку.) Человеку такая хитрость дана, что он надо всеми, иже на земле, и под землею, и в водах... Поди сюда! (Тащит удочку.) Что? Попалась?»
Создавая образ Аристарха, Островский мог иметь в виду мудрый склад ума Верховского, его склонность к витиеватой, образной речи, нередко украшенной церковно-славянскими словами и выражениями.
Слово «пельсик», услышанное в Щелыкове, драматург придал свахе Красавиной из комедии «Праздничный сон до обеда». Расхваливая невесту, купчиху Ничкину, она говорит: «аккурат пельсик» (картина 1-я, явление 4-е).
5
Островский не только познавал, записывал и изучал устно-народное творчество, но и отражал, использовал его в своих пьесах.
Так, в комедии «Не в свои сани не садись» Авдотья Максимовна поет песню «Научить ли те, Ванюша» (действие 2-е, явление 1-е). Старожилы щелыковской округи уверяли меня, что эта песня распевалась здесь в давно прошедшие времена, и Островский, следовательно, мог ее слышать и записать.
В шестом явлении третьего действия пьесы «Не так живи, как хочется» Еремка, обращаясь к Петру, поет песни «Куманечек, побывай у меня» и «Уж и я ли твому горю помогу!». Эти песни также пели в окрестностях Щелыкова. Островский мог слышать их в самый первый свой приезд в усадьбу — в 1848 году.
А. И. Орлов сообщает, что песня «Куманечек, побывай у меня» по его записям «встречается во многих районах Ивановской области и, в частности, в Кинешемском, недалеко от усадьбы Щелыково»16. Песня «Лучинушка» («Доходное место», действие 3-е, явление 4-е), по его же записям 1926 года, «бытует во многих селениях Кинешемского района».
Нами уже указывалось на использование в комедии «Воевода» мотива песни «Баю-баю, мил внучоночек», услышанного Островским в районе Щелыкова.
Вероятно, драматург записывал здесь и другие песни, использованные им в этой пьесе. Песня «На море утушка купалася» (действие 1-е, сцена 1-я, явление 2-е) и до сих пор распевается в приволжских районах, близких к Щелыкову. В третьем действии той же пьесы Олена, обращаясь к Марье Власьевне, говорит:
Государыня боярышня,
Есть за мной вина немалая:
На реке платно мыла,
Громко колотила.
(Действие 3-е, явление 3-е.)
Это обращение — вариация на тему народной песни «Девка платье мыла», которую Островский также мог слышать в Щелыкове. В 1862 году песня появилась в сборнике Варенцова, а позднее была записана в Костромской губернии17.
Но каждая из этих песен использована драматургом в соответствии с социально-эстетическим замыслом того образа, обрисовке которого она служит в данной пьесе. Наиболее яркие тому примеры: комедия «Бедность не порок», драма «Не так живи, как хочется», комедия «Воевода» («Сон на Волге»), весенняя сказка «Снегурочка».
Многие песенно-обрядовые и хороводные мотивы устно-народной поэзии, слышанные и записанные драматургом в Щелыкове, в творчески переработанном виде вошли в «Снегурочку», сотканную из устно-поэтических мотивов. Указывая на пребывание драматурга в Щелыкове, первый исследователь «Снегурочки» Ф. Д. Батюшков справедливо писал, что «Островский мог не только книжным путем, но непосредственно, по впечатлениям жизни, заинтересоваться культом Ярилы, ознакомиться с некоторыми обрядностями этого культа и задумать их поэтическую обработку»18. Совершая до 1872 года свой путь в Щелыково на лошадях, Александр Николаевич, очевидно, не один раз слышал от ямщиков о Берендеевом болоте в Александровском уезде Владимирской губернии. Здесь и сейчас держится предание о древнем граде берендеев, которым когда-то правил царь Берендей.
В Щелыкове и его окрестностях ежегодно весело и шумно справляли проводы масленицы. Надежда Николаевна Островская, сестра драматурга, проведшая детство в усадьбе, вспоминает: «На Масленице начались катанья: насядут полные розвальни молодежи и детей, и вся компания с песнями разъезжает от деревни к деревне. В Прощеное Воскресенье сделали чучело; сложили большой костер за деревней и вечером сожгли масленицу, а кругом костра пели, прощаясь с блинами и весельем»19.
Трудно допустить, чтобы Надежда Николаевна не рассказывала об этом Александру Николаевичу. О проводах Масленицы в Щелыкове драматург мог слышать и рассказы своего брата, Андрея Николаевича, увлекавшегося устной народной поэзией. Рассказами сестры и брата драматург мог воспользоваться при написании четвертого явления пролога «Снегурочки».
Устная поэзия северного крестьянства, с которой Островский соприкасался, находясь в Щелыкове, питала, обогащала и другие его произведения. При этом необходимо заметить, что Островский чаще всего переплавлял уже известные устно-народные поэтические мотивы в горниле своей творческой лаборатории и создавал на их основе оригинальные художественные произведения. Но и в тех случаях, когда народная песня вводилась драматургом в пьесу без изменения, она полностью подчинялась раскрытию определенного образа и органически включалась в развитие действия пьесы.
6
Все близко, хорошо знавшие драматурга, свидетельствуют о его необычайной наблюдательности, о присущей ему острой писательской зоркости. Драматург не пропускал ничего, что могло бы послужить ему для художественного воспроизведения.
В. М. Минорский вспоминает: «Играет ли Александр Николаевич в карты, это не значит, что он только ими и занят; нет, напротив, тихо перебирая в руках карты, он внимательно следит за всем окружающим, и все его наблюдения с необычайной яркостью и точностью запечатлевались в его памяти, которая у драматурга была очень хорошей»20 .
Естественно, что в сферу наблюдений драматурга входила и вся бытовая обстановка щелыковской усадьбы, которая затем в художественно преображенном виде появлялась в создаваемых им пьесах.
Обстановка главного щелыковского дома, вся совокупность окружающих условий так или иначе отражается во всех его «усадебных» пьесах. Изображая декорацию второй сцены пьесы «Воспитанница», Островский пишет: «Гостиная. Прямо отворенная дверь в сад, по сторонам двери, посередине круглый стол». Эта обстановка весьма напоминает щелыковскую.
Местом третьего действия комедии «Лес» служит старый густой сад; налево от зрителей невысокая терраса барского дома, уставленная цветами; с террасы сход в три или четыре ступени. Реальной основой и этой декорации мог послужить главный щелыковский дом. Здесь нашла отражение и такая подробность щелыковского летнего обихода, как обилие цветов, которые стояли на террасе, в столовой, в гостиной и во всех других комнатах.
Драматург ввел в свои «усадебные» пьесы, очень многие предметы домашнего быта, окружавшие его в летние месяцы щелыковской жизни. Так, старинная мебель, возможно, частично оставшаяся в щелыковском доме еще от отца, колокольчик стали принадлежностью залы Мурзавецкой из пьесы «Волки и овцы».
Разумеется, драматург подобную обстановку мог находить и находил у своих соседей-помещиков. Его наблюдения не ограничивались собственной усадьбой. Совершенно очевидно, что для обстановки таких пьес, как «Воспитанница», «Лес», «Волки и овцы», «Без вины виноватые», он использовал наблюдения над усадебным бытом более богатых соседей.
Моделью внешней обстановки «усадебных» пьес Островского могли служить усадьбы Комарово (Яковлевых), Старое Соколово (Хомутовых), Ново-Покровское (И. А. Григорова), Александровское-Пеньки (М. А. Григорова), Погост (Ф. А. Бредихина). Во всех этих усадьбах драматург бывал.
По изустному преданию, бывая в усадьбе Старое Соколово, Александр Николаевич с удовольствием проводил время за своими записями в избушке. По сохранившимся фотографиям особенно эффектны дома в усадьбах Ново-Покровское (на реке Киленке), Александровское-Пеньки и Погост.
Между прочим, великолепный макет усадьбы Погост, в которую драматург неоднократно приезжал, чтобы наблюдать из обсерватории Бредихина луну и звезды, хранится в музее поселка Островского (бывшее село Семеновское-Лапотное). Главный дом этой усадьбы, как он представлен в макете, отличается импозантностью, которую ему придают четыре большие колонны, башенки с острыми шпилями и соприкасающиеся с ним два здания.
В пьесах Островского, рисующих усадебную обстановку, воспроизведено так или иначе и все окружение главного щелыковского дома. Щелыково находится в таком тесном соседстве с близлежащими деревнями (Ладыгино, Лобаново, Василёво, Субботино, Кутузовка), что песни, распеваемые в них крестьянской молодежью, хорошо слышатся в саду. Третье действие «Воспитанницы», происходящее в саду усадьбы Уланбековой, открывается хороводной песней, которая поется вдали.
Некоторые детали щелыковских обстоятельств могли послужить для комедии «Лес». Во времена Островского в Щелыкове было много георгинов. В комедии «Лес» Счастливцев говорит: «Пойду, поброжу по саду, хоть георгины все переломаю, все-таки легче» (действие 4-е, явление 4-е).
Не исключено, что именно пруд с островком посередине стоял перед мысленным взором Островского, когда он писал знаменитую сцену, в которой Аксюша, племянница Несчастливцева, бежит топиться. Но подобные и даже лучшие пруды были и в усадьбах окрестных помещиков.
Бытовые факты, детали и штрихи отражаются в пьесах Островского не только в прямом, но и в творчески переработанном, в сложно переосмысленном виде. Яркий пример тому комедия «Волки и овцы». В первые годы владения усадьбой драматург, о чем уже говорилось, с большим рвением занимался приведением ее в порядок: строил баню, беседки, улучшал палисады и т. д. Строительные заботы писателя и обусловленные ими связи с поставщиками, подрядчиками и мастеровыми нашли свое отражение в первом явлении пьесы «Волки и овцы», но уже в совершенно ином свете. Отношения Островского с подрядчиками, поставщиками и мастеровыми были благожелательными, на редкость простыми и непосредственными. При всегдашней нужде Островского в материальных средствах нередко бывали случаи и задержки им уплаты денег за работу и различные поставки. Но при этом дело всегда кончалось без какой-либо обиды с той и другой стороны, при сохранении обоюдного взаимопонимания. В соответствии же с характером Мурзавецкой драматург показывает ее отношения с зависимыми от нее людьми в форме деспотического своеволия и произвола.
Вот Мурзавецкую ждут люди, надеясь получить с нее деньги. Обрашаясь к ним, дворецкий Павлин говорит:
«Стало быть, вы барышню дожидаться хотите?
1-й крестьянин. Да уж подождем: наше дело такое, что дожидаться.
2-й крестьянин. И подождешь, ничего не поделаешь. Мы еще позапрошлую осень лес возили на баньку. (Указывая на подрядчика.) Вот рыжий-то строил.
Маляр. А мы вот палисаду красили, звен двенадцать, да беседку умброй подводили.
Староста. А мы так бычка-опоечка в ту пору на солонину...
Столяр. Всякий за своим, ведь; и мы вот тоже два столика под орех, да в спальню к барышне...»
Поставщики дождались и увидели Мурзавецкую, но денег и на этот раз не получили. А затем дворецкий грубо выпроводил их (действие 1-е, явление 3-е).
В дни местных храмовых праздников (9 мая в церкви Николы в погосте Бережки и 13 сентября в церкви Воскресения Славущего в селе Твердове) Островский весьма охотно посещал один, с детьми, с гостями народные гулянья. Это было неподалеку от усадьбы, на лугу деревни Субботино. С особенным удовольствием он посещал народные гулянья в Твердове и в Сергееве. Приходя на гулянье, Александр Николаевич чаще всего смешивался с толпой крестьян, иногда же смотрел на деревенские забавы издали, с горы. Эта бытовая деталь щелыковской жизни писателя воплотилась в разговорах действующих лиц пьесы «Волки и овцы»:
«Мурзавецкая... У нас тут храмовый праздник неподалеку, а ты, чай, и не знаешь?
Купавина. Как не знать! На моем лугу гулянье бывает» (действие 2-е, явление 3-е).
И еще:
«Мурзавецкий. ... Вот, например, сегодня вечером, если вы меня не отпустите...
Мурзавецкая. Куда это? На гулянье, с пьяными мужиками путаться?» (действие 2-е, явление 6-е).
И последнее:
«Купавина. Я хочу народное гулянье посмотреть.
Лыняев. Не ходите! Что за удовольствие идти за две версты, да еще по горам, чтобы смотреть на пьяных.
Купавина. Скажите лучше, что вам лень! Оставайтесь!
Лыняев. Я бы пошел, но там, вероятно, ваши люди гуляют, мы их только стесним. Зачем расстраивать чужое веселье!
Купавина. Мы издали посмотрим, с горы» (действие 3-е, явление 2-е).
Необходимо отметить, что народное гулянье упоминается здесь не просто как явление деревенской жизни. В репликах Мурзавецкой и Лыняева, видящих в народном гулянье лишь пьянство, совершенно отчетливо сквозит их чуждость и враждебность народу. Бытовая деталь подчинена драматургом, как и всегда, идейному замыслу пьесы, в данном случае — разоблачению поместного дворянства.
До проведения железной дороги леса в Кинешемском уезде были баснословно дешевы, по десяти рублей за десятину. Этот факт нашел отражение в пятом явлении четвертого действия комедии «Волки и овцы». Обращаясь к Купавиной, Беркутов говорит: «В другом месте это огромное богатство, а здесь на лес цены низкие: лесопромышленники дадут вам рублей по десяти за десятину».
Щелыковская округа славилась обилием волков, которые с осени начинали тревожить жителей усадьбы. «Ах,— извещала 19 декабря 1869 года щелыковская управительница своего хозяина,— у нас сколько волков — бездна, по улицам ходят, у вас Соловейку и мою собаку тоже съели, и маленького одного щенка съели»21. В 1876 и 1877 годах в кинешемских земских собраниях слушались специальные доклады о мерах к истреблению волков — так их было много. В пьесе «Волки и овцы» воплощена и эта бытовая деталь. «Вот, Бог даст,— говорит в пятом явлении первого действия Павлин о Тамерлане Мурзавецкого, — осень придет, так его беспременно, за его глупость, волки съедят. Недаром мы его волчьей котлеткой зовем». Предсказание Павлина сбылось. «Близ города, среди белого дня,— в отчаянии повествует Мурзавецкий,— лучшего друга... Тамерлана... волки съели» (действие 5-е, явление 12-е).
Кстати сказать, щелыковские волки вспоминаются и в «Бесприданнице». Мечты Ларисы о деревенском спокойствии, о прогулках по лесам, о собирании ягод и грибов Харита Огудалова перебивает грубой прозой: «А вот сентябрь настанет, так не очень тихо будет, ветер-то загудит в окна.
Лариса. Ну, что ж такое.
Огудалова. Волки завоют на разные голоса» (действие 2-е, явление 3-е).
Островский был, как уже отмечено, неутомимым рыболовом. Он удил в Куекше, ездил с острогой по Сендеге, забрасывал невод в Мере. И эта бытовая деталь его щелыковской жизни отразилась в пьесе «Светит, да не греет», написанной совместно с Н. Я. Соловьевым. Рукой Островского внесены в рукопись этой пьесы реплики Дерюгина, в которых он удивляется обилию плещущейся в реке рыбы и высказывает желание «завтра же утром... в этом самом месте неводок закинуть»22.
7
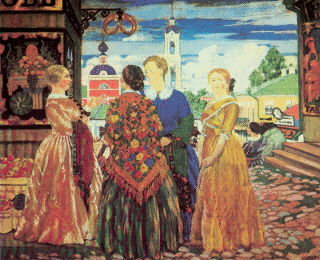
Кустодиев Б.М. Купчихи. Картон, темпера, 1912 г.
Щелыково связывало Островского с Кинешмой. Кинешма всегда была для него не только пересадочной станцией, но и объектом писательских наблюдений.
Благодаря земской деятельности у Островского в Кинешме было много знакомых, и он, по воспоминаниям С. В. Максимова, не только по общественным делам, но «и вообще ее старается посещать: там у него есть где остановиться и с кем поговорить»23.
В очень коротких отношениях Александр Николаевич был, например, с почтмейстером, В щелыковском музее хранится фотография драматурга с его дарственной надписью: «Ивану Васильевичу Промптову. А. Островский». На оборотной стороне фотографии Промптов обозначил дату ее получения — «30 августа 1883 года». В этот день Островский вместе с гостями праздновал свои именины. Среди гостей находился и И. В. Промптов. Кстати сказать, он являлся владельцем небольшого имения Максютино, расположенного в 5-6 километрах от Щелыкова.
В Кинешме драматурга особенно привлекали ярмарки, на которые в большом количестве съезжались крестьяне. Он любил посещать их, так как ему представлялось здесь широчайшее поле для изучения характеров, нравов и народной речи.
Кинешемские наблюдения Островского не могли не отразиться в создаваемых им произведениях.
Видовая панорама первого действия «Грозы», как уже сказано,— проекция Кинешемской. Она намечена лишь общими штрихами: «Общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов». Эта панорама, данная в ремарке лишь пунктиром, начинает оживать в словах Кулигина, открывающих пьесу.
В «Грозе» можно указать и предметы, связанные с Кинешмой. В четвертом действии, спасаясь от дождя, гуляющие укрываются в галерею старинной постройки и начинают разглядывать роспись ее стен. На одной стене они видят «геенну огненную». Эту картину «геенны огненной» Островский мог видеть и, несомненно, видел, осматривая достопримечательности Кинешмы. Она была запечатлена на стенах паперти одной из старинных церквей и изображала «Страшный суд со всеми его ужасами»24.
Место действия «Грозы», как это ясно из текста пьесы, происходит не в губернском, а в уездном городке. «Городок» называет его Борис, «городком» именует его Кулигин. Дикой грозит Кулигину городничим, а городничие, как известно, были лишь в уездных городах.
Кинешма являлась превосходным источником для «Грозы» и особенностями своего обществено-бытового уклада. Это типичный уездный город — один из старейших торгово-промышленных центров верхнего Поволжья.
Местные старожилы, смещая времена, указывали и на реальные прототипы некоторых действующих лиц «Грозы», в частности, на прототипы Кабанихи и Тихона. «Подобная ей,— уверяли они,— жила в Кинешме. Это Евдокия Ларионовна Баранова... Купчиха местная... Она самая... И прототип ее сынка здесь жил»25. Совершенно очевидно, что здесь речь идет об А. А. Барановой, владевшей белильным заведением, и о ее сыне П. И. Баранове — крупном хлеботорговце. Но ни Баранова, ни ее сын не могли быть прототипами Кабановых, их деятельность развивалась позже. Они подтверждают лишь глубокую правдивость образов Островского.
Рисуя широкими мазками природу в пьесе «Гроза», драматург не ограничивался видами Кинешмы. Он воссоздал здесь всю совокупность своих волжских впечатлений. Сюда вошли его наблюдения Костромы, Нижнего Новгорода, Торжка и других волжских городов, но основой их оставалась, по всей видимости, все же Кинешма.
В Кинешме Островский мог черпать материал и для пьесы «Горячее сердце», написанной в 1868 году. Декорацией ее третьего действия является «Площадь на выезде из города. Налево от зрителя городничий дом с крыльцом; направо арестантская, окна с железными решетками; у ворот инвалидный солдат; прямо река и небольшая пристань для лодок, за рекою сельский вид». Рисуя эту обстановку, драматург, несомненно, исходил из таких знакомых ему кинешемских картин: площади возле собора, на выезде из города, двух зданий присутственных мест, расположенных рядом с собором, реки, лодочной пристани, вида на Заволжье.
Одним из действующих лиц комедии «Волки и овцы» является почетный мировой судья Лыняев. Весьма вероятно, что участие писателя в мировых съездах дало ему материал для заявления Лыняева: «Завелся в нашем округе какой-то сутяга: что ни съезд, то две-три кляузы, и самые злостные. Да и подлоги стали оказываться. Вот бы поймать, да в окружной!» (действие 1-е, явление 10-е).
В ноябре 1874 года Островский начал и в 1878 году закончил пьесу «Бесприданница». Для этой пьесы он воспользовался трагическим случаем убийства молодой женщины на почве ревности, разбиравшимся в Кинешемском мировом суде26.
В этой драме кинешемские впечатления и наблюдения отчетливо проступают в намерениях Карандышева баллотироваться в мировые судьи. Кинешму напоминает здесь и крутой спуск к пристани. «Ах, как я устала,— говорит Лариса.— Я теряю силы и насилу взошла на гору» (действие 4-е, явление 7-е)27.
В Кинешме, издавна являвшейся одним из крупных торгово-промышленных центров верхнего Поволжья, драматург мог встречать реальных прототипов не только Карандышева, но и Паратова, Кнурова, Вожеватова28. Вот почему постановщики кинокартины «Бесприданница» использовали в 1935 году для своих съемок именно этот город.
В Кинешме хорошо сохранились и торговые ряды, куда городничий Градобоев из пьесы «Горячее сердце» наведывался с кульком «для порядку».
Купив Щелыково, Островский с большим нетерпением ждал строительства Иваново-Кинешемской железной дороги. Об этом знали все его близкие и немедленно сообщали ему по этому поводу последние новости. «Со мной ехал зять Шипова (костромского предводителя дворянства.— А. Р.),— писал ему 19 июля 1869 года Бурдин,— и сказал, что Кинешемская железная дорога утверждена за Горбовым и будет готова через два года»29. Собственные ожидания и надежды кинешемских промышленных кругов, связанные с проведением в город железной дороги, Островский отразил в словах Беркутова из комедии «Волки и овцы»: «Лес Купавиной стоит полмиллиона. Через десять дней вы услышите, что здесь пройдет железная дорога. Это из верных источников, только ты молчи пока» (действие 4-е, явление 4-е).
Выполнение драматургом обязанностей почетного мирового судьи и гласного земства отразилось, в частности, и в репликах Беркутова, касающихся земства и дворянских выборов.
Под Кинешмой, на реке Кинешемке, славилась гульбищами во Всехсвятское воскресенье Ярилина роща. Об этой роще писали И. М. Снегирев30, А. В. Терещенко31, П. С. Ефименко32 и другие. Островский знал Кинешемскую Ярилину рощу не только по литературным источникам, но и как очевидец. Сведения о ней, вероятно, пригодились драматургу и для весенней сказки «Снегурочка».
Кинешемские впечатления могли отразиться и в других пьесах Островского, в частности, в драме «Грех да беда на кого не живет» и комедии «Невольницы».
8
Щелыково связывало Островского и с Костромой. В те времена Щелыково входило в Костромскую губернию. Поэтому для решения экономических и правовых дел по усадьбе драматургу приходилось выезжать в Кострому. Этот город, начиная с 1848 года, он посещал очень часто и жил здесь неделями. Не лишним будет отметить, что 30 мая 1861 года Костромской губернский статистический комитет, зная глубокий интерес писателя к Костромскому краю, избрал «титулярного советника А. Н. Островского» своим почетным членом.
4 сентября 1873 года драматург сообщал М. П. Садовскому: «Путался я все это время по разным делам в Костроме, потому и не писал Вам давно» (XV, 18). В этот приезд Александр Николаевич пробыл в Костроме почти полных две недели. Сюда, для ввода по владение Щелыковым, его вызвал 17 августа телеграммой М. Н. Островский: «Еду прямо Кострому... приезжай с бумагами к 20-му»33.
В Кострому драматург приезжал весьма охотно. Это была родина его отца. Здесь жил глубоко чтимый им родной дядя — П. Ф. Островский. Духовная карьера не увлекала Павла Федоровича, но материальные обстоятельства заставили его обратиться именно к ней. Выйдя из духовной семинарии, Павел Федорович определяется дьяконом костромского Успенского собора, а затем становится его священником, ключарем и, наконец, членом духовной консистории.
П. Ф. Островский произносил прекрасные проповеди, создавшие ему большое уважение паствы. Обладая глубоким умом, разносторонними интересами, образной и проникновенной речью, ярким пером, он заслуживал продвижения. Но духовные власти были недовольны им. На это имелись причины. В своих общественных взглядах он склонялся к либерализму. В глазах духовной среды он шел много дальше того, что позволяло его положение. Самостоятельно мыслящий и находчивый, Павел Федорович ко многому в условиях своего круга относился не только без должной почтительности, но часто и иронически. Исполнение священнослужительских обязанностей называл «лицедейством». С начальством вел себя круто и дерзко. Все это не могло нравиться духовным властям, и они держали его в Костроме, по выражению М. Н. Островского, «как бы в ссылке»34.
П. Ф. Островский написал ряд сочинений церковно-исторического, духовно-биографического и библиографического плана35. По своему характеру он был очень доброжелательным, простым и сердечным.
С какой любовью к нему относился драматург, можно судить по следующим строкам письма Александра Николаевича к П. И. Андроникову от 12 апреля 1874 года: «Вчера получил я от Эмилии Андреевны известие, которое меня очень встревожило; она передала мне, что расстроенное здоровье многоуважаемого дядюшки нисколько не улучшается. Вам известно, как искренно люблю я дядюшку и как уважаю в нем последнего представителя старших в нашем роде» (XV, 35).
Беседы с Павлом Федоровичем доставляли драматургу большое удовольствие. 2 сентября 1872 года, занятый в качестве душеприказчика по завещанию И. А. Белеховой, Александр Николаевич писал ему: «Окончания дела о завещании Белеховой, вероятно, мне не дождаться в Щелыкове, и, несмотря на мое желание побывать в Костроме, я должен буду отказать себе в этом удовольствии» (XIV, 237).
Среди костромских деятелей, с которыми драматург находился в близких отношениях, нужно особенно выделить местного литератора П. И. Андроникова. На его сестре, Прасковье Ивановне, был женат Павел Федорович. Павел Иванович усердно изучал язык, быт и нравы крестьян Костромской губернии, а также занимался собиранием произведений устного народного творчества. С 1857 года он доброхотный корреспондент драматурга, щедро делившийся с ним своими материалами. В архиве Александра Николаевича хранятся присланные ему Андрониковым такие ценные рукописи, как сборник слов Костромской губернии, записи обычаев, нравов, свадебных обрядов и т. д.36. В той или иной мере эти материалы были использованы Островским в своих пьесах и в первую очередь при написании комедии «Воевода».
П. И. Андроников — человек сложной судьбы и духовной эволюции. В 50-е и 60-е годы он увлекается революционно-демократическими идеями. Вспоминая свою молодость, он сам признавался, что в ту пору писал и говорил «под влиянием духа времени и провозвестников его журналов «Современник» и «Русское слово», одним словом, сыпал я отборными выражениями, прямо из журнальных статей»37.
В 70-е годы Андроников изменяет воззрениям своей молодости, а в 80-е годы становится законченным консерватором. Обладая как владелец типографии и редактор костромских газет («Костромские губернские ведомости», «Костромской листок объявлений») широкими возможностями печататься, он включился в активную борьбу с идеями социализма и материализма. В 1881 году им была издана реакционная брошюрка «Люди нового времени», направленная против романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, статей Д. И. Писарева, «Рефлексов головного мозга» И. М. Сеченова и всего того, что было связано с передовым общественным движением. В том же году он верноподданнически преподнес эту брошюрку Александру III, приезжавшему в Кострому, за что получил «всемилостивейшую» благодарность.
В Костроме сохранилось четыре дома, в которых Александр Николаевич бывал или останавливался: дом № 8 по улице Горной, принадлежавший его деду Ф. И. Островскому, а потом его дяде П. Ф. Островскому; дом № 1 по проспекту Мира, принадлежавший до 1870 года А. Н. Григорову, затем проданный Городской думе (впоследствии в нем расположилась гостиница); дом на углу улиц Советской и Чайковского, в котором раньше помещалась гостиница «Старый двор», а ныне «Центральная»; дом на улице Шагова, принадлежавший П. И. Андроникову. По изустным преданиям, в доме по Горной улице драматург писал «Грозу».
В доме А. Н. Григорова, человека весьма культурного, гуманного, прогрессивного, попечителя мужской костромской гимназии (1857), создателя первой в России женской гимназии (1858), антикрепостника38, драматург мог быть и до и после 1870 года. Очень любил он сидеть, отдыхая, в беседке, что на Волге, под Успенским собором. Эта беседка, неоднократно подновляемая, переделываемая, сохранилась до сих пор.
Интересуясь прошлым города Костромы, драматург изучал его историю по печатным и иным источникам. Ему были известны, например, все материалы о Костроме, публиковавшиеся в «Журнале министерства внутренних дел».
О том, что драматурга интересовали не только труд, быт, нравы, язык костромичей, но и персональный состав их политических властей, может свидетельствовать следующая телеграмма М. Н. Островского, посланная в Щелыково 24 мая 1884 года: «Поздравляю. Костромским губернатором назначен Калачев из Харькова»39. Калачев слыл человеком либерального направления.
Творчество Островского обогащалось и впечатлениями от Костромы. Здесь он черпал материалы для таких пьес, как «Гроза», «Воевода», «Горячее сердце», «Красавец мужчина», «Без вины виноватые» и другие.
Наиболее ярко эти наблюдения сказались в «Грозе» и «Воеводе». Для «Грозы» Островский, несомненно, воспользовался жестокими купеческими нравами, властвовавшими в Костроме; вероятно, фамилией Кабановых, распространенной среди тогдашнего костромского купечества; особенностями костромского пейзажа, а также и некоторыми событиями, происходившими в городе.
Островский был восхищен природой Костромы до чрезвычайности. В своем путевом дневнике 1848 года он отметил: «Подле собора общественный сад, продолжение которого составляет узенький бульвар, далеко протянутый к Волге по нарочно устроенной для того насыпи. На конце этого бульвара сделана беседка. Вид из этой беседки вниз и вверх по Волге такой, какого мы еще не видали до сих пор» (XIII, 183).
В особенный восторг привел его квартал, называемый «Дебря». Он записал о нем так: «С правой стороны Дебря ограничивается той горой, на которой мы стоим, сзади — горой, на которой реденькая и вековая сосна нагнулась и стережет этот уголок; слева тоже березки, и вдруг неизвестно откуда забежала по горе темная сосновая роща, спустившаяся до самой реки. Она охватила это очаровательное место, чтобы не разбежались березки... Через рощу видны горы и какие-то неведомые [1 слово неразб.] верст на 30. А на той стороне Волги, прямо против города, два села; и особенно живописно одно, от которого вплоть до Волги тянется самая кудрявая рощица, солнце при закате забралось в нее как-то чудно, с корня, а наделало много чудес. Я измучился, глядя на это... Измученный воротился я домой и долго, долго не мог уснуть. Какое-то отчаяние овладело мной. Неужели мучительные впечатления этих пяти дней будут бесплодны для меня?» (XIII, 185).
Впечатления Островского не прошли бесследно, они отразились в пейзажных зарисовках «Грозы», «Воеводы», «Бесприданницы» и других его волжских пьес.
Будучи в Костроме, драматург ознакомился с памятниками старинной архитектуры и последствиями огромного пожара, происшедшего в 1847 году. В его дневнике от 28 апреля 1848 года записано: «Остановились в единственной, пощаженной пожаром, гостинице. Она очень не удобна для нас, да уж нечего делать — хорошие все сгорели. Много хорошего сгорело в Костроме» (XIII, 183).
И памятники архитектурной старины и последствия пожара также нашли отражение в «Грозе». В первом явлении четвертого действия этой пьесы один из гуляющих, рассматривая стены старинной, начинающей разрушаться постройки, замечает: «А ведь тут... когда-нибудь, значит, расписано было. И теперь еще местами означает». — На это ему второй гуляющий отвечает: «Ну да, как же! Само собой, что расписано было. Теперь, ишь ты, все впусте оставлено, развалилось, заросло. После пожару так и не поправляли. Да ты и пожару-то этого не помнишь, этому лет сорок будет».
В Костромском соборе драматург мог видеть картину с изображением Страшного суда, подобную Кинешемской40.
Наиболее тесной связью с Костромой отличается комедия «Воевода». Ее действующие лица — думный дворянин и дьяк из приказа Костромской четверти. В комедии упоминаются места Костромского края: Унжа, Красное село, Галицкое озеро (действие 4-е, явление 1-е), Лесная пустынь (действие 4-е, явление 3-е)41. Для комедии «Воевода» Островский использовал самые различные исторические материалы, относящиеся к изображаемому времени: «Акты, относящиеся до юридического быта древней России» (2-й том), «Акты исторические» (4-й том), книгу Г. К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» и некоторые другие. Драматург изображал в этой комедии, как и в пьесе «Гроза», обобщенный город. Но, создавая свое произведение, он имел в виду и конкретный облик Костромы, этого старинного, так нравившегося ему города, его предания и особенности речи. Не случайно, что в государевом указе проворовавшемуся Шалыгину велено, по сдаче отчета новому воеводе, явиться в Москве в Костромской приказ.
Важно отметить, что Островский, перечисляя исторические материалы, использованные им для «Воеводы», сослался и на документ, прямо относящийся к Костроме. Это обязательство некоего Панкратия Нестерова, «родиною Костромского уезда», служащего у князя Козловского во дворе, «по вся дни», за занятые им три рубля. На основе этого документа драматург создал вымышленный рассказ Дубровина о его желании наняться к воеводе, с которым он обращается к сторожу:
...Полчетверта
Рубля прошу, а не дадут, так за три,
Возьму, пропью, а там навек кабальный.
(Действие 5-е, явление 1-е.)
Князья Козловские когда-то владели многими селами и деревнями в Кинешемском уезде. Ко всему тому, дочь князя А. В. Козловского, Наталья Андреевна, была матерью владельца Щелыкова генерал-майора Ф. М. Кутузова. Ей принадлежали Угольское, Твердово и другие селения.
Костромичи гордились и гордятся Островским. Они не преувеличивают, считая драматурга своим земляком.
Но справедливо числя Островского своим земляком, костромичи склонны были переоценивать место собственного края в его творчестве. В 1911 году «Поволжский вестник» утверждал: «Нам, костромичам, должен быть особенно дорог Островский, во-первых, как местный уроженец, во-вторых, потому, что все типы произведений известного драматурга взяты из нашего края, прошлой нашей жизни»42.
Это утверждение — явная передержка. Во-первых, из 47 оригинальных пьес Островского 30 изображают нравы и типы Москвы. Во-вторых, материалами для 17 пьес, связанных с провинциальной жизнью, послужили наблюдения Островского над жизнью, бытом, нравами не только костромского края, но и других местностей России, которые он посещал во время своих путешествий. Островский черпал материалы для своих «провинциальных» пьес в Нижнем Новгороде, в Самаре, в Харькове, в Саратове, в верховьях Волги.
Необходимо сказать также, что когда появилась пьеса «Гроза», то костромичи восприняли ее как прямое отражение события, происшедшего в их городе, в семье мещан Клыковых. В первых представлениях этой пьесы в Костроме артисты даже гримировались под Клыковых. В 1892 году местный краевед Н. И. Коробицын напечатал исследование «Опыт комментария к драме «Гроза», в котором очень обстоятельно доказывал, что сюжет «Грозы» имеет своей основой дело Клыковых43. Но все это представляет сплошной вымысел. Создавая «Грозу», Островский не знал о драме в семье Клыковых, о том, что их сноха бросилась в Волгу. Островский закончил «Грозу» 9 октября 1859 года, 31 октября того же года пьеса уже прошла драматическую цензуру, а Александра Павловна Клыкова исчезла из дома 10 ноября 1859 года44.
«Гроза» явилась обобщением характеров и нравов, наблюдаемых Островским во многих местах России, в том числе и в Костроме. И вот почему жизненная драма Александры Клыковой, повторившей судьбу Катерины Кабановой, лишь подтвердила великую правду идейного замысла и образов «Грозы».
9
В пьесах Островского щелыковские, кинешемские, костромские источники и мотивы обозначаются выпукло и ярко. Они несомненны. Островский впитывал, как губка, и большое и малое. И находил тому и другому надлежащее место в своих пьесах. Щелыково, Кинешма, Кострома — эти великолепные русские «грады и веси», расположенные на могучей волжской трассе, оказали на творчество Островского огромное влияние.
Бескрайние просторы, мощь, изумительная прелесть волжской природы дали драматургу возможность со всей полнотой осознать силу, размах, величие и красоту русского характера и пропеть ему восторженный гимн.
На фоне этой великолепной природы с чрезвычайной рельефностью обнажались язвы феодально-крепостнического и капиталистического бытия, жестокие нравы, деспотизм и невежество властителей «темного царства» и во всей страшной глубине раскрывалась трагедия таких чистых сердец, как Катерина и Кулигин («Гроза»), Лариса («Бесприданница») и Негина («Таланты и поклонники»).
Отмечая вдохновляющее влияние на творчество Островского Волги, ее могучей и чарующей природы, С. А. Юрьев, известный театровед, критик, переводчик, однажды воскликнул: «Разве «Грозу» Островский написал? «Грозу» Волга написала!»45.
Но все жизненные впечатления и мотивы, характеры и эпизоды сохраняют в творчестве драматурга неувядаемую ценность лишь потому, что в них воплощаются социальные черты общерусского свойства, при этом в яркой, эстетически совершенной форме. Чтобы достичь этого, Островский, создавая свои произведения, руководствовался четкими творческими принципами.
Он исходил из глубочайшей уверенности в огромной социально-эстетической роли искусства и наиболее действенным из всех видов искусства признавал драматический.
Островский не мыслил своих пьес вне воспроизведения жизненно верных и важных общественных типов. Удивительное писательское его мастерство сказалось не только в способности наблюдать, запечатлевать в своем сознании увиденное и услышанное, но и в умении отобрать среди окружающего существенно важное, в частном прозревать общее, типическое. Островский никогда не был простым фотографом наблюдаемой им жизни, он всегда был чужд натурализму. Наблюдая в Щелыкове, Кинешме и Костроме социальные характеры и нравы, драматург вносил в свои пьесы лишь то, что помогало ему отражать ведущие тенденции современной ему эпохи: экономическое и духовное оскудение дворянства, возвышение торгово-промышленной буржуазии, ухудшение положения трудового люда, обострение классовых противоречий. Он отбрасывал все случайное, затемняющее правильное видение жизни, перспективы ее развития.
На материале быта, нравов и характеров Щелыкова, Кинешмы и Костромы, проверенных многими другими наблюдениями и творчески обобщенных, Островский создал художественные образы огромной типической глубины и широты, нередко приобретающие нарицательность. Эти образы не являются присущими лишь какому-либо одному городу, они отражают то, что происходило во всех городах изображаемого им времени — уездных и губернских. Подчеркивая обобщающий смысл своих пьес, Островский развертывает их действие часто в городах без названия или с вымышленным названием. Город Калинов служит ему для воплощения особенностей уездных городов («Гроза», «Горячее сердце»), а город Бряхимов — для характеристики своеобразия губернских городов («Бесприданница»).
Жизненно важное, глубоко типическое Островский стремился воплотить в конкретных, индивидуальных, художественно-правдивых, убедительных, рельефно очерченных образах. Он высказывал свои заветные убеждения, осуществляемые им на всем протяжении творческой деятельности, когда 19 июня 1885 года писал А. Д. Мысовской: «Мы теперь стараемся все наши идеалы и типы, взятые из жизни, как можно реальнее и правдивее изобразить до самых мельчайших бытовых подробностей, а главное, мы считаем первым условием художественности в изображении данного типа верную передачу его образа выражения, т. е. языка и даже склада речи, которым определяется самый тон роли» (XVI, 179).
Но изображение быта никогда не являлось для Островского самоцелью. Он не был узким бытовиком, каким его представляла реакционная и примыкающая к ней либеральная критика. Быт являлся для него формой выражения общечеловеческого. Отмежевываясь от натуралистически-этнографического изображения действительности, он писал: «Точный слепок со статуи Помпея, точные копии с римских чаш, из которых пьют вино, для сцены не нужны» (XII, 2).
Стремясь к раскрытию общечеловеческого, наш драматург широко применяет условные средства изображения: фантастику («Воевода»), гротеск («На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце»), символику («Гроза»), романтику («Снегурочка»).
Правдивое изображение человеческих характеров требует, по мнению Островского, глубокого раскрытия их социальных обстоятельств, определяющих все их поступки, психологию, чувства.
Черпая сюжеты и характеры из окружающей, повседневно наблюдаемой и изучаемой им реальной действительности, творчески перерабатывая типические общественные явления в художественно законченные образы, Островский создавал «пьесы жизни», захватывающие и волнующие широкие массы зрителей и читателей своей правдой, демократической идейностью, общеинтересностью содержания, совершенством сценического мастерства.
Именно органическое единство социально-типической сущности огромного значения, выраженной в индивидуально неповторимой, образной форме, придает пьесам Островского непреходящую красоту и ценность и определяет их способность доставлять эстетическое наслаждение все новым и новым поколениям.