Приложение к интернет-версии
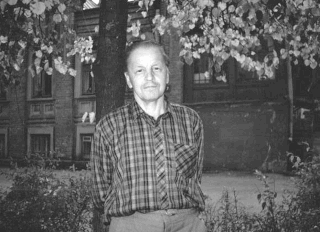
11 июня 2015 года [*] исполнилось бы 77 лет Борису Михайловичу Козлову (1938—2000), кандидату филологических наук, доценту кафедры литературы КГУ, талантливому педагогу и скрупулёзному исследователю. В память о Борисе Михайловиче мы публикуем здесь материал из его архива, предоставленный Л. Ф. Козловой, — полный текст статьи «“Критик-публицист” (Забытые страницы народнической литературной критики)», включающий в себя фрагменты пяти статей М. А. Протопопова, прокомментированные Б. М. Козловым.
Ранее этот текст публиковался в сокращённом и переработанном варианте, без авторских примечаний и комментариев (см.: Козлов Б. «Критик-публицист» Михаил Протопопов // Русь: Литературно-исторический журнал писателей России. 1994. № 4. С. 80—84; Протопопов М. Критики Некрасова. Отрывок из статьи // Там же. С. 85—86).
[*] Материал был подготовлен к печати в 2015 году. Опубликован в сб.: Духовно-нравственные основы русской литературы. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. — С. 107—122. (Примеч. интернет-публикаторов.)
Б. М. Козлов
«КРИТИК-ПУБЛИЦИСТ»
(Забытые страницы народнической литературной критики)
Имя Михаила Алексеевича Протопопова (1846—1915) хорошо известно исследователям истории русской журналистики и критики последней трети XIX века, но не широкому читателю. Его статьи, составившие сборники «Литературно-критические характеристики» (СПб., 1898), «Критические статьи» (М., 1902) и оставшиеся за их пределами, не переиздавались. И при жизни, и после смерти Протопопов оказался «в тени» более крупного представителя народнической критики — Н. К. Михайловского. Между тем «...М. А. Протопопова, несмотря на его излишнюю прямолинейность, Михайловский ценил высоко. У этого критика был бесспорный литературный дар и было глубокое знание современной русской литературы»[1]. Ценили его талант полемиста, стремление продолжить благородное дело Добролюбова, Писарева, Чернышевского и читатели-современники: «Протопопов имел все шансы стать “властителем дум” современной ему молодежи, если бы это место не было уже занято тогда кумиром ее, Н. К. Михайловским»[2].
М. А. Протопопов родился в 1848 г. в г. Чухломе Костромской губернии, в семье уездного казначея. В 13-летнем возрасте он был определен в Константиновский межевой институт. В 1849 г. Николай I повелел «поставить институт на военную ногу», и этот статус сохранялся до 1867 года. Однако дух свободомыслия проник и в это полувоенное учебное заведение: в 1859 г. воспитанники старших классов «проявили непокорство и порицание распоряжений начальства» и были строго наказаны. Судя по воспоминаниям Протопопова, зачисленного в институт двумя годами позже, полностью искоренить вольнодумство не удалось, хотя этим занимался сам попечитель М. Н. Муравьев, заслуживший у современников прозвище «Вешателя». С неприязнью вспоминал критик о директоре института генерал-майоре Апухтине: «Он занимался искоренением “скрытого либерализма”... из нас, 18—19-летних юношей, и надоел он нам хуже горькой редьки»[3]. Застав однажды воспитанника Протопопова за чтением статей Добролюбова, директор сделал ему строгое внушение. В 1869 г., после восьмилетнего обучения, Протопопов успешно, третьим из 42 выпускников, закончил институт и несколько лет прослужил межевым инженером в Белоруссии. Решив заняться литературной деятельностью, он в 1876 г. приезжает в Петербург, посещает больного Некрасова, который направляет его в редакцию «Отечественных записок» к Н. К. Михайловскому, одобрившему дебютную статью молодого критика «Литературная злоба дня». Подписанная псевдонимом «Н. Морозов», она появилась в январской книжке журнала за 1877 год, рядом с «Последними песнями» Некрасова, и вызвала большой интерес. Определив состояние литературы 1870-х гг. как кризисное, Протопопов увидел причину этого явления в социальных болезнях общества: «Для того, чтобы в литературе, осужденной действовать среди “мерзости” нравственного “запустения”, в эпоху общей деморализации и застоя, опять начала бить живая струя, ей необходимо найти новую почву для своих идеалов...». Критик призвал литературу жить «злобой дня», переориентироваться с «индивидуально-нравственных идеалов» на «социальные идеалы», которыми жила эпоха 1860-х гг. Он подчеркивал, что «на интеллигенции лежит обязанность почина, инициативы», которые могут «теперешнюю потенциальную силу масс возвысить на степень силы активной и самосознательной».
В дальнейшем Протопопов в «Отечественных записках» был только рецензентом, зато он получил трибуну в газете «Русская правда», где выступал с ежедневными обзорами «Меж газет и журналов» и еженедельными обзорами «Русская журналистика», которые с интересом воспринимались читателями. Здесь он «отточил перо» критика-полемиста. В начале 1880-х гг. его статьи регулярно появляются и в журналах «Русское богатство», «Слово», «Дело», «Устои».
В 1884 году его активная журналистская деятельность была прервана разгромом журналов «Отечественные записки» и «Дело». В марте, как и многие сотрудники редакций, Протопопов был арестован. Жандармы предъявили ему обвинение в принадлежности к Исполнительному комитету «Народной воли». В ходе следствия это не подтвердилось, но арестованный не мог отрицать, что на его квартире часто собиралась «нелегальная молодежь», среди которой могли находиться и народовольцы. После полугодового тюремного заключения Протопопов был на несколько лет выслан в родной город Чухлому. Переписка с соратниками, особенно с Михайловским, помогла ему пережить одиночество, а затем восстановить прежние связи. Когда срок ссылки закончился, Михайловский пригласил Протопопова сотрудничать в журнале «Северный вестник», который задумал как орган, призванный заменить закрытые «Отечественные записки». Это сделать не удалось, Михайловский ушел из журнала, рассчитывая, что Протопопов поддержит его, но ошибся, и это осложнило их личные взаимоотношения. В течение 1887—1890 гг. Протопопов публиковал свои статьи и рецензии преимущественно в «Северном вестнике». С 1891 года он становится одним из ведущих критиков журнала «Русская мысль» — вплоть до прекращения активной критической деятельности в 1903 г. Он опубликовал здесь около 50 больших статей-рецензий, т. е. примерно половину своих работ. Само их количество свидетельствует о творческой продуктивности критика и его прекрасном знании современной литературы, в буквальном смысле от «А» до «Я»: именной указатель литераторов, о которых писал Протопопов, включает десятки имен — от малоизвестного публициста-народника Я. B. Абрамова до И. Ясинского.
В чем же состоит своеобразие Протопопова-критика?
Наиболее соответствующим его задачам и возможностям оказался жанр статьи-рецензии. Б. Ф. Егоров указывает и на объективные причины этого факта: «Народники... с теоретических статей начинали, а историко-литературными заканчивали. Либеральное перерождение позднего народничества ослабило масштабность и критическую остроту их работ, которые или сужались до жанра рецензии (что характерно для М. Протопопова), или расширялись до обстоятельных, почти академических, а не журнальных трудов Скабичевского...»[4]. Кстати, и сам Протопопов писал об этой трансформации: «Современная критика наша, как известно, превратилась в рецензенство»[5]. Надо, однако, заметить, что критик был способен многое сделать и в пределах этого жанра. Его статьи-рецензии открывались проблемно-теоретическими главами, в которых определялись «исходные позиции» автора для его разговора с читателем «на злобу дня» «по поводу» рецензируемого произведения. Если статья имела дискуссионный характер, именно здесь формулировались «пункты» полемики. Очень часто «прямолинейность» Протопопова, о которой так много говорили, выражалась уже в названии статьи: «Кладбищенская философия» (отзыв на книгу Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе»); «Пустоцвет» (отзыв о писателе И. Ясинском); «Жертва безвременья» («характеристика» А. П. Чехова) и т. п.
Оборотной стороной «обстоятельности», присущей статьям критика, порою становилась композиционная рыхлость, выражавшаяся в раздражающей медлительности рассуждений, повторах и т. п. И все же читать их интересно, потому что они написаны убежденным в своей правоте, талантливым человеком. Это признавали и «противники» Протопопова. В одном из некрологов приводился отзыв Д. С. Мережковского: «У Протопопова есть так называемое бойкое перо, остроумие и политический темперамент по призванию»[6].
Всё сказанное выше касается жанровых, композиционных, стилевых признаков критических трудов Протопопова. Каковы были ее содержательные, сущностные особенности, ее задачи, определившие место Протопопова в истории русской критики?
Предлагаемые вниманию читателя отрывки из его статей, надеемся, дают ответ на эти вопросы.
Современники очень точно назвали Протопопова «последним из могикан русской публицистической критики», «прямым, хотя и несколько односторонним продолжателем критики 1860-х годов».
Основываясь на тезисе Чернышевского: «Жизнь выше искусства», он утверждал: «Русская критика не ограничивалась и не могла ограничиться философско-эстетическими вопросами, должна была говорить не о литературе, а о предмете литературы, т. е. о жизни и ее потребностях»[7]. К сожалению, полагая, что «литературная критика есть не что иное, как литературная публицистика», он низводил ее до уровня «утилитарной», почти отказывался от эстетического анализа произведений как дела второстепенного или даже бесполезного. Поэтому он и занял фланговую позицию в борьбе «реальной критики» с «теорией чистого искусства». Своеобразная «однобокость» Протопопова стала мишенью для его оппонентов. Например, публицист Е. Марков резонно обвинил Протопопова и всю «тенденциозную критику» в том, что они «не заметили» интереса Добролюбова к эстетической стороне литературы и тем самым «исказили его по своей мерке». Отвечая «критику-эстетику», Протопопов признал, что Добролюбов проявлял внимание к «художественности», но подчеркнул: «Вот в том-то и дело, что “требования русской жизни” стояли в глазах Добролюбова неизмеримо выше каких бы то ни было художественных красот»[8].
Критик-«утилитарист» был готов порою предложить своим противникам «перемирие»: «В старом споре эстетиков с утилитаристами пора бы уж окончательно разобраться, пора бы остановиться на каком-нибудь обоюдно-безобидном решении. Да успокоятся эстетики: люди, старающиеся дискредитировать их богиню... бессознательно являются живым доказательством могущества красоты. Посмотрите на самого ярого врага красоты, самого неумолимого разрушителя эстетики — Писарева: он писал в высшей степени красиво... доставлял нам красотою своей пылкой речи чисто эстетическое наслаждение, чего нельзя сказать ни о старых, ни о новейших защитниках эстетики... Усердные жрецы эстетики (Григорьев, Страхов и проч.) пишут неэстетично, некрасиво, разрушители эстетики (Писарев, Добролюбов) пишут так, что некоторые их страницы представляют собою настоящие “стихотворения в прозе”. Собственно говоря, что же можно сказать против красоты как явления, и против эстетики как учения о красоте? Красота сама по себе отнюдь не зло, а несомненное благо, но благо второстепенное, имеющее только служебное значение. Вот в этой-то последней оговорке, в этом большом “но” и заключается центр тяжести всего вопроса, всего спора между утилитаристами и эстетиками...»[9]. Это было сказано в 1903 году, когда Протопопов ушел из большой журналистики, оставшись на позициях хранителя «заветов» публицистической критики.
Необходимо сказать о специфике народнических взглядов Протопопова. Дело в том, что он, представитель народнической критики, неоднократно называл себя... «борцом» (!?) против народничества, например: «Никто, кажется, не обнаружил столько усердия в борьбе с нашим народничеством, сколько я... Да, широкая народническая струя в нашей литературе делает честь не только литературе, но и всему русскому обществу... Народничество, как высшая и первая забота о народе, почти бессмертно, и не его я хороню... Но идеалистическое народничество 70-х гг., поставляющее безграмотного мужика в передний угол в роли вершителя наших судеб или оракула... — это народничество отжило свой век. Это не я говорю, это сказала жизнь, история...»[10]. Свою статью о произведениях Н. Н. Златовратского «Последовательный народник», отрывки из которой даются в этой публикации, он назвал «ожесточенным спором» с писателем, идеализировавшим общинные деревенские порядки. Возражал он и против «принижения интеллигенции перед народом», отводя ей роль борца за просвещение народа, избавление его от «предрассудков». Неутешительные итоги «хождения в народ» он объяснял неразвитостью народного самосознания. Называя себя «семидесятником», он как бы «поверх барьеров» народничества напрямую связывал себя с идеологией «шестидесятников». Взгляды Протопопова свидетельствуют о многоликости русского народничества. В. И. Ленин в статье «От какого наследства мы отказываемся?» писал: «Есть хранители “наследства” ненародники, и есть народники, “отрекшиеся от наследства”. Разумеется, есть и народники, хранящие “наследство” или претендующие на хранение его»[11] . По-видимому, Протопопов, как и Михайловский, в сочинениях которого Ленин находил специфическую «прибавку народничества» к «наследству» революционных просветителей, может быть отнесен к этой третьей генерации.
Рамки вступительной статьи к публикации, включающей лишь малую часть критического наследия Протопопова, не позволяют дать обзор его отзывов о писателях-современниках. Выделим лишь самое главное. Идеальными служителями «злобе дня» он считал Некрасова, поэтов, подхвативших его мотивы, представлявших «гражданское направление» в русской реалистической поэзии (А. М. Жемчужников, А. Н. Плещеев). Отрицательную оценку в его статьях получили А. А. Фет, А. Н. Майков, Я. П. Полонский, А. К. Апухтин, поэты-символисты.
Из прозаиков он выделял М. Е. Салтыкова-Щедрина как писателя, которому талант подлинного художника слова помогал создавать произведения высокого общественно-политического уровня.
Глеб Успенский был интересен для него как автор произведений, в которых критик увидел наличие народнических иллюзий и одновременно их крушение. Статьи о писателях-народниках — Н. И. Наумове, П. В. Засодимском, Н. Е. Каронине-Петропавловском, Н. Н. Златовратском и др. содержат протест против попыток «обсахаривать» народ.
Сложнее обстояло дело с оценкой произведений Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева: масштаб «утилитарной» критики не позволял Протопопову постигнуть богатство и сложность их художественного мира. Художественный талант этих писателей был для него вне всяких сомнений, поэтому он в основном полемизировал с их идеями. Например, он не принял в учении Толстого «недоверия к уму», идеализации «естественной жизни», резко осудил проповедь «непротивления», назвав ее пособничеством злу.
В духе народнических традиций Протопопов оценил А. П. Чехова как «безыдейного» писателя.
Отрывок из статьи «Беллетристы новейшей формации» показывает, что критик связал ницшеанство и марксизм, обвинив его в насилии над историей, в стремлении «выварить русский парод в фабричном котле», а Горького обвинил в проповедничестве ницшеанства.
Новое в литературном процессе становилось для Протопопова все более непонятным, он отставал от стремительно развивавшейся общественной жизни, ведущие журналы отказались от его услуг. Ему пришлось печататься в «Беседе» И. Ясинского, которую он сам называл «жалким журнальцем», и даже просить помощи у суворинской газеты «Новое время», с которой он некогда полемизировал. Поля двух сборников его статей, превращенных им в своеобразный дневник, покрыты записями отчаявшегося человека. К нищете прибавилось одиночество: еще в 1900 г. он расстался с больной женой.
События 1905 года он встретил в «литературной богадельне» — Доме писателей, созданном Литературным фондом. Личные беды не заслонили от него «злобы дня»: «Но всё пустяками представляется в сравнении с общерусским вопросом, теперь вот, в эти дни решающимся: да или нет? Быть Собору или быть диктатуре Трепова? Помоги, Господи, России…»[12]. Он прожил на скудное пособие еще 10 лет, больной и полунищий. Умер критик в психиатрической больнице в 1915 г.
Костромская земля — родина не только многих русских прозаиков, драматургов, поэтов, но и известных литературных критиков — В. Зайцева, В. В. Розанова; в Костромской духовной семинарии учился Н. Н. Страхов, а в Костромской гимназии — Н. К. Михайловский. Сегодня, когда из глубин истории извлекаются новые имена, этот ряд необходимо дополнить именем М. А. Протопопова. Дело еще и в том, что опыт критики Протопопова, со всеми ее достоинствами и просчетами, может пригодиться в наше время, которое, по мнению Ю. Буртина, нуждается в возрождении традиций «...критики реальной, которая... заговорила бы — на материале литературы и самой жизни — о насущных нуждах и нашего общественного бытия»[13].
Примечания
1. Петрова М. Г. Эстетика позднего народничества // Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX вв. М., 1975. С. 140—141.
2. Кауфман А. Е. Страницы воспоминаний о Протопопове // Вестник Кассы взаимопомощи литераторов и ученых. 1916. № 1. С. 9.
З. Протопопов М. О молодежи // Беседа. 1904. № 5. С. 517.
4. Егоров Б. Ф. О мастерстве литературной критики. Л., 1960. С. 306,
5. Протопопов М. Герой нашего времени // Русское богатство. 1880. № 3. С. 1 (2-я паг.).
6. Батюшков Ф. М. А. Протопопов. Некролог // Вестник Кассы взаимопомощи литераторов и ученых. 1916 № I, С. 7.
7. Протопопов М. Умная книга // Русская мысль. 1893. № 1. С. 103.
8. Горшков Александр (псевдоним М. А. Протопопова). В защиту мертвеца // Русское богатство. 1860. № 11. С. 9.
9. Протопопов М. Критики-эстетики // Русская мысль. 1903. № 8. С. 44—45.
10. Протопопов М. Поэты переходного времени // Русская мысль. 1899. № 1. С. 182.
11. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 530.
12. Рукописный отдел ГБЛ. Ф. 464. Карт. 1. Ед. хр. 1. Л. 7—8.
13. Буртин Ю. «Реальная критика» вчера и сегодня // Новый мир. 1987. № 6. С. 237.
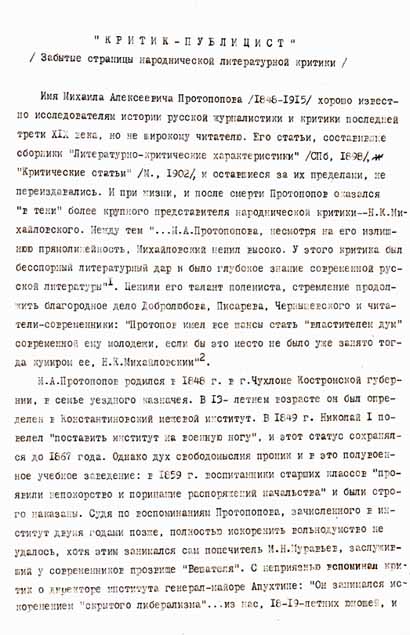 Первая страница машинописи статьи Б. М. Козлова «“Критик-публицист” (Забытые страницы народнической литературной критики)». Архив Л. Ф. Козловой
Первая страница машинописи статьи Б. М. Козлова «“Критик-публицист” (Забытые страницы народнической литературной критики)». Архив Л. Ф. Козловой
Михаил Протопопов
Из статьи «МОТИВЫ РУССКОЙ КРИТИКИ»
...Истинный литературный талант заключается не в техническом искусстве... не в обладании формой, не в чувстве изящного, — его корни скрыты в самых сокровенных глубинах человеческой психики, в темпераменте, в характере, в сердце, в совести человека... Кто ставит в своей жизни на первый план «трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья»[1], кто понимает и ищет красоту только в гармонии красок и звуков, тот, не говоря о другом прочем, тем самым свидетельствует о ничтожестве своего характера и ума. Господа эстетики, по-видимому, искренне думают, что только они в Аркадии родились, что только они способны чувствовать так называемую «красоту» и наслаждаться ею, что мы, утилитаристы, органически неспособны к этому — и отсюда все наши протесты и сарказмы. Пусть же они разуверятся. Не хуже их мы знаем и чувствуем, что
Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Но дальше мы не пойдем с поэтом и не воскликнем вместе с ним: «Я родину люблю, — но ты, природа-мать, Для сердца ты всего дороже»[2]. Вот где начинается наш протест, вот та пропасть, которая отделяет общественного деятеля от сибарита, работника от белоручки, утилитариста — от эстетика...
...Вопрос о всяком наслаждении, в том числе и об эстетическом, есть вопрос личных вкусов, о которых не спорят, не теоретизируют. «Мне нравится, мне не нравится», — вот первый и последний довод всякого чистокровного и откровенного эстетика... Понятия красоты и безобразия — понятия относительные и субъективные; понятия добра и зла имеют объективный характер... Эстетика имеет своим основанием темперамент человека, этика покоится на началах разума или, точнее, на совести, контролируемой разумом. Вам нравится «пурпур розы», а мне «отблеск янтаря», от этого никому ни тепло, ни холодно. Но если вам «нравится» истязать своих детей, или мне нравится таскать из чужих карманов кошельки, мы понесем кару не только от суда общественности, но и от суда государственного.
Не в таланте художника, не в большей или меньшей живости или яркости его красок заключается главная сущность дела, а в его нравственном и общественном миросозерцании. Не для услаждения наших досугов, а для нашего поучения и вразумления поэты, «как боги, входят в Зевсовы чертоги».
Теперь не представляет затруднений определить те цели, которые должны стоять перед литературным критиком, и те основания, на которых покоится критика... Вопрос «как?» есть вопрос главным образом о форме и составляет почти исключительно достояние эстетической критики. Трудно представить себе что-нибудь бесплоднее и безжизненнее критики этого рода. Художественность формы, как и всякая красота, чувствуется, а не доказывается...
...Тридцать лет тому назад Добролюбов утверждал, что «эстетическая критика сделалась достоянием чувствительных барышень»[3]. Талантливый критик очень ошибся... Эстетические учения никогда не будут господствовать, но всегда будут существовать, а в моменты общественного застоя будут неизбежно выдвигаться на первый план. Эстетика в такие моменты — желанный гость для всех пораженных малодушием, зараженных мыслебоязнью, умственно и нравственно истощенных людей.
...Объективного критерия прекрасного нет, потому что эстетик столько же, сколько людей, и вся суть эстетики выражается одной аксиомой: прекрасное есть то, что нравится, безобразное есть то, что не нравится. Да, когда у людей есть серьезное дело, они «о вкусах не спорят».
...Значение формы есть значение средств, а не цели. Чем лучше форма, тем легче воспринимается содержание, в чем именно и состоит цель искусства. Вот почему вопрос, что говорит художник, настолько же важнее вопроса, как говорит, насколько вообще всякая цель важнее ведущего к ней средства. Собственно, истинная роль истинного критика в том и состоит, чтобы определить миросозерцание художника, найти для его живых, конкретных образов отвлеченные формулы и общие характеристики и затем указать то место, которое должен занять художник в ряду других художников, а его миросозерцание в ряду других систем идей...
«Выдвижение на первый план служебной роли искусства» г. Арсеньев относит к «последнему времени»... Прихожу к убеждению, что... это я и мои писания. Больше быть некому... Мне, человеку «небеззаботному насчет литературы», хорошо известно, что во всей современной журналистике (столичной) только один я с полной решительностью и без всяких смягчающих оговорок выдвигаю на первый план служебную роль искусства, защищая тенденциозность и пр. и пр.
Должен сознаться, что я чувствую себя не то чтобы обиженным, а несколько сконфуженным упреками г. Арсеньева... Нет, я не требовал нигде и никогда от поэзии и поэтов «служения идеям и стремлениям эпохи во что бы то ни стало»; нет, я не посягал на «свободу и простор» творчества... Г. Фет пишет по-своему, а Некрасов по-своему... но следует ли из этого, что мы, литературные критики, должны ими дорожить одинаково! Пусть синица «свободно» остается синицей и летает себе «на просторе», — мы говорили и говорим только то, что синица птица маленькая и на орла нисколько не похожая. Это не только наше право, — это наша прямая обязанность.
Эту же самую срединную позицию занимает и г. Скабичевский, если верить тому, что он говорит в предисловии. Требование, чтобы искусство служило ни исключительно одной красоте, ни столь же исключительно одной политике, а всей жизни, во всей ее совокупности, помогло автору с одинаковым беспристрастием и почетом отнестись и к поэту-гражданину в лице Некрасова, и к жрецу чистого искусства в лице Пушкина... Г. Арсеньев указывает на свое центральное положение между враждебными эстетическими теориями — то же самое делает и г. Скабичевский...
Комментарий и примечания
Статья М. Протопопова «Мотивы русской критики», опубликованная в журнале «Северный вестник» (1890. № 3), была написана в связи с выходом первых двух томов сочинений польского публициста и литературоведа В. Д. Спасовича (СПб., 1889), «Критических этюдов» К. К. Арсеньева (Т. I и II. СПб., 1889) и двухтомного издания сочинений А. М. Скабичевского (СПб., 1890). В ней Протопопов в предельно ортодоксальной форме сформулировал свои принципы критика-«утилитариста», непримиримого противника «эстетической школы». Считая себя наиболее последовательным представителем «тенденциозной», «публицистической» критики, он осудил «центризм» Арсеньева, неодобрительно относившегося к «крайностям» как эстетической, так и «утилитарной» критики. Здесь и в других статьях Протопопов осуждал и A. M. Скабичевского за «реверансы» в сторону «эстетиков».
1. Здесь и ниже Протопопов цитирует стихотворение А. Фета «Шепот, робкое дыханье...»
2. Цитаты из стихотворения К. Н. Батюшкова «Есть наслаждение и в дикости лесов...». Одна — неточная; надо: «Я ближнего люблю...»
3. Неточная цитата из статьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», начинающейся фразой: «Эстетическая критика сделалась теперь принадлежностью чувствительных барышень...»
Из статьи «ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ»
...Литературная критика — только часть литературы; публицистическая критика — только часть литературной критики, в которую входят историческая, эстетическая, биографическая, библиографическая, а у нас, кроме того, еще критика аналитическая (Валерьян Майков) и критика органическая (Аполлон Григорьев). Какое разнообразие критических систем и точек зрения! Тем более мы вправе и даже обязаны остановиться лишь на такой критической школе, которая непрерывным и последовательным развитием своим доказала свою жизненность. Такою школой, — говорю это с полным историческим беспристрастием, — является у нас только и единственно публицистическая критическая школа. Только она была не случайностью, не досужим кабинетным измышлением, а продуктом жизни, только она одна имеет не только традиции, но и идеалы, и не только идеалы, но и традиции...
...Основной принцип школы Белинского состоит в подчинении искусства интересам жизни... Вот первая и последняя эстетическая заповедь критического утилитаризма. Разве это окаменелое правило, — неспособное приспособляться к жизни, разве требование ответов на вопросы времени предрешает сущность и содержание как этих вопросов, так и их ответов? Развитию жизни нет пределов, вопросам времени нет числа, но если мы привлекаем внимание людей к этим вопросам и сами посильно решаем их, — это значит, что мы идем вровень или даже впереди действительности... Степень нашей требовательности... зависит от самой жизни, от ее уровня и от ее форм, но неотступное, неугомонное и неустанное предъявление требований составляет наш принцип, в широкие рамки которого укладывается наша эстетика и даже наша этика. И вот почему я сказал выше, что этот принцип способен к бесконечному развитию... Живите, мыслите, требуйте, памятуйте о вопросах, учите тому же других, и вот всё, к чему вас обязывает утилитарная школа... Полевой, Надеждин, Белинский, Добролюбов, Писарев — вот в хронологической последовательности главные деятели нашей публицистической критики...
Комментарий
Статья М. Протопопова «Из истории нашей литературной критики», опубликованная в журнале «Русская мысль» (1892. № 8, 9), была откликом на выход книги «Очерки гоголевского периода русской литературы (“Современник” 1855—1856 гг.)» (СПб.: Изд. М. Н. Чернышевского, 1892). Вскоре критик написал отзыв о сборнике «Критические статьи (“Современник” 1654—1651 гг.)» (СПб.: Изд. М. Н. Чернышевского, 1893). Вторая статья называлась «Умная книга» (Русская мысль. 1893. № 1). Имя Н. Г. Чернышевского в обеих статьях заменено словом «автор»: легализация произведений опального лидера революционных демократов, недавно ушедшего из жизни, еще только начиналась. Протопопов рассматривал «Очерки гоголевского периода...» как «истинную критическую историю одного из важнейших базисов кашей литературы». Чернышевский тем самым был восстановлен в ряду критиков-публицистов, хотя его имя не было названо: «Цель “Очерков” была чисто публицистическая. В глазах автора (так же, как и в наших) это обстоятельство не умаляло, а, напротив, увеличивало их значение...» (Русская мысль. 1892. № 8. С. 134). В статье Протопопова была выстроена схема истории русской критики как «выражения самосознания самой литературы» (Там же). Критик полагал, что «в фазисе классицизма» «существовала только или голая брань, или голая похвала», а «хронологически первым нашим критиком» явился «теоретик романтизма Полевой» (С. 136).
К фазису реализма Протопопов отнес «возникновение у нас публицистической или утилитарной критики... которая руководствуется не эстетическими или метафизическими критериями, а идеалами разумной общественности, потребностями и духовными нуждами действительной жизни» (Там же. С. 139).
Из статьи «КРИТИКИ НЕКРАСОВА»
(Сборник критических статей о Н. А. Некрасове. В трех частях.
Составил В. Зелинский)
...Тургенев — это ли не поэт, не знаток, не тончайший эстетик, не художник? — дал, например, следующий отзыв о поэзии Некрасова: «Нет никакого сомнения, что, в ваших глазах, г. Некрасов неизмеримо выше Полонского, что даже странно сопоставлять эти два имени; а я убежден, что любители российской словесности будут еще перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется забвением. Почему же? А потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия, и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях “скорбной музы” г. Некрасова — её-то, поэзии-то, и нет ни на грош, как нет ее, например, в стихотворениях всеми уважаемого и почтенного Хомякова» (Зелинский, ч. II, с. 35)[1].
Вот типичное суждение завзятого специалиста, суждение «любителя российской словесности», а не простого смертного, не обыкновенного человека... Для «любителей российской словесности», для людей, «уткнувшихся в свою литературу»... справедливость суждения Тургенева не может подлежать сомнению.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви![2]
Что это за стихи? Что это за антихудожественные, ухо дерущие, беспрестанные «щих», «щих», «щих»? Это какой-то насморк, а не поэзия! Вот поэзия:
Посмотри — в окне мелькает
Русая головка:
Ты не спишь, мое мученье,
Ты не спишь, плутовка![3]
Или вот одно из произведений г. Фета, только что в пух и прах расхваленных г. Бурениным[4], по авторитетнейшему свидетельству которого в этих произведениях бездна «поэтической прелести»:
Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю
В томленьях крайнего усилья
И верю сердцем, что растут
И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья[5].
...Пока существуют такие «любители словесности», аматеры самодовлеющей литературщины, для которых вопрос о хореях, ямбах, октавах и пр. важнее вопроса о том, что посредством этих ямбов и октав высказывается, до тех пор будут возможны и мнения, подобные мнению Тургенева. Рифмы «парю» и «горю», «головка» и «плутовка» лучше рифмы «болтающих» и «погибающих»; далеко Некрасову до гг. Фета и Полонского. Но, однако, вот что. Неуклюжие некрасовские стихи невозможно читать без глубокого волнения, а иным впечатлительным людям даже без слез, таких слез, о которых и в старости отрадно вспомнить, тогда как лирические воззвания к «плутовке» сияют больше на страницах альбомов поручиков Пироговых[6], да в тетрадях полковых писарей, — больших, как известно, «любителей русской словесности»...
...Литературная судьба Некрасова в одно и то же время и печальна, и завидна. Она печальна, потому что поэт так и умер, не дождавшись достойной критической себе оценки, нашел для своих произведении не критиков, а только критиканов. Завидна, потому что свою огромную популярность он имел, следовательно, право вменить в заслугу единственно самому себе, своему яркому таланту, пробившему себе дорогу помимо критики или даже несмотря на нее. Не беда, что Некрасова судили его литературные враги; беда в том, что они не столько судили, сколько «подсиживали», «доезжали», «отделывали», стремились уязвить. Поэзия Некрасова, очевидно, их не очень озабочивала, но самая личность поэта не давала им покоя, выводила из себя. Тургенев был головою выше всех критиков Некрасова, за исключением Аполлона Григорьева, и мы уже видели его отзыв: у Некрасова «ни на грош» нет поэзии. Даже ни на грош! Что это — суждение или брань? Мы не хотели бы оскорблять память Тургенева подозрением, что его отзыв был вызван всем известною личною враждой его к Некрасову, но где же средства избавиться от этого подозрения, какими бы — хоть окольными — путями обойти его? Допустим, что Тургенев, по свойству своей тихой, элегической, нежной духовной организации, просто не мог понять силы и красоты бурного некрасовского лиризма... Но и это единственно допустимое объяснение не во спасение. Приведем одно небольшое стихотворение Некрасова:
Как ты кротка, как ты послушна,
Ты рада стать его рабой,
Но он внимает равнодушно,
Уныл и холоден душой.
А прежде... помнишь? Молода,
Горда, надменна и прекрасна,
Ты им играла самовластно,
Но он любил, любил тогда!
Так солнце осени — без туч
Стоит, не грея, на лазури,
А летом и сквозь сумрак бури
Бросает животворный луч...
Таких лирических безделушек чисто личного характера у Некрасова немного, но совершенно достаточно для того, чтобы признать в нем «поэта» в том смысле, в каком понимает поэзию Тургенев, в том смысле, в каком самыми настоящими поэтами являются гг. Полонский и Фет. Пусть «Размышления у парадного подъезда» не поэзия, а «всякими пряностями приправленное измышление»; пусть «Рыцарь на час» не более как декламация; пусть «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо» — «сшиты белыми нитками». Но только что приведенное нами стихотворение? Антипатичной Тургеневу «гражданской скорби» в нем нет и следа, форма его безукоризненна; мотив его — любовь с ее прихотливыми капризами. Стихотворения: «Если, мучимый страстью мятежной...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О письма женщины, нам милой!..», «Где твое личико смуглое...», «Так это шутка? Милая моя...» и др. принадлежат к той же самой категории. Г. Полонский никогда не бывал Некрасовым, по Некрасову стоило захотеть, чтобы взлететь на вершину того Парнаса, на котором священнодействовал г. Полонский. В этом признавались, хотя косвенно и неохотно, некоторые из критиков Некрасова, в общем относившиеся к нему совершенно так же, как Тургенев. Так, Эраст Благонравов (Алмазов), заявив, что «содержание стихотворений Некрасова самое непоэтическое и часто даже антипоэтическое»... признает все же «истинно поэтическим» стихотворение «Если, мучимый страстью мятежной...»[7]. Итак, даже по сознанию критиков-эстетиков, к которым принадлежал и Тургенев, у Некрасова есть «истинно поэтические» произведения. Тем не менее — «ни на грош!» — авторитетно заявляет Тургенев. Видно, правду сказал один старинный писатель: «пристрастие недальновидно, а ненависть вовсе ничего не видит».
Эта подкладка личной ненависти, ненависти не к поэзии, а к поэту, сказывается в огромном большинстве критиков Некрасова, и нужна была большая вера в свои силы, в правоту своего дела и отзывчивость «друга-читателя», чтобы не смутиться, не опустить рук перед этим упорством злобы...
...Поэзия Некрасова «дельная» поэзия — вот какой отзыв дал Белинский при самом начале развития поэтической деятельности Некрасова[8]. Да, в противоположность бездельной поэзии, поэзии узко личных чувств и ощущений, поэзии-музыки, поэзии — пейзажной живописи, некрасовская поэзия есть поэзия дела, т. е. жизни и ее высших интересов. Будущий критик Некрасова, настоящий критик, которого поэт дождется же когда-нибудь, определит его значение в истории нашего развития в связи с эпохой, ярким и полным поэтическим выражением которой явился Некрасов.
Комментарий и примечания
Статья М. Протопопова «Критики Некрасова», напечатанная в журнале «Северный вестник» (1888. № 3), была полемическим обозрением составленного В. Зелинским «Сборника критических статей о Н. А. Некрасове», вышедшего первым изданием к десятилетию со дня смерти поэта. Протопопов счел своим долгом защитить личность и поэзию Некрасова от предвзятых и неверных оценок; восприняв содержание сборника как в основном негодное, он сделал вывод: Некрасов еще не дождался настоящего критика. По сути дела, Протопопов превратил свое выступление в критику «критиков» поэта, противопоставив им свое мнение о нем как о самом нужном, «главном» поэте середины и конца века. Он проанализировал отзывы о Некрасове, принадлежавшие Аполлону Григорьеву, Н. Страхову, О. Миллеру, В. Буренину, Вс. Крестовскому, С. Дудышкину и другим. Но лейтмотивом статьи стала полемика с Тургеневым, о чем свидетельствуют отрывки из нее, представленные выше. Спор «вокруг Некрасова» выстроен как возражения критика-«утилитариста» Тургеневу-«эстетику».
1. Протопопов неточно, к тому же с изменением «лица», воспроизводит отрывок из тургеневского «Письма к редактору» <«С.-Петербургских ведомостей»>, опубликованного газетой 8(20) января 1870 г. В нем Тургенев ответил Салтыкову-Щедрину, который в анонимной рецензии на сочинения Полонского охарактеризовал их как бессодержательные. Защищая Полонского, Тургенев дал отрицательную оценку поэзии Некрасова, тоже несправедливую.
2. Цитата из стихотворения Некрасова «Рыцарь на час».
3. Неточно процитированная первая строфа стихотворения Я. Полонского «Вызов».
4. Буренин Виктор Петрович (1641—1926) — поэт и публицист, перешедший из лагеря демократической журналистики в редакцию реакционной газеты «Новое время».
5. Цитата из стихотворения А. Фета «Я потрясен, когда кругом...»
6. Персонаж повести Н. В. Гоголя «Невский проспект».
7. Алмазов Борис Николаевич (1827—1876) — поэт, критик, сотрудничавший в журнале «Москвитянин» под «маской» Эраста Благонравова. Протопопов, вслед за Добролюбовым, воспринимал его как теоретика «чистого искусства».
8. Отзыв Белинского о стихотворении Некрасова «В дороге» — в статье «Петербургский сборник» (1846): «Мелких стихотворений в “Петербургском сборнике” немного. Самые интересные из них принадлежат перу издателя сборника, г. Некрасова. Они проникнуты мыслию; это — не стишки к деве и луне; в них много умного, дельного и современного. Вот лучшее из них — “В дороге”...»
Из статьи «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ НАРОДНИК»
(Собрание сочинений Н. Златовратского. Два тома. Москва, 1891 г.)
...Никогда и нигде толпа, масса, «народ» не являлись самостоятельными деятелями, всегда и везде они были только исполнителями планов и повелений своих вождей. «Всё для народа» — это выражение понятно, как и выражение «всё для стада»... Человеческое стадо не имеет ни своего разума, ни своей боли, а имеет лишь стадные инстинкты да зоологические побуждения. Эти-то инстинкты вы рекомендуете нам уважать? Вы требуете почтительного отношения к воззрениям, вышедшим из мрака этих инстинктов? Пусть на стороне этих воззрений авторитет давности, пусть они освящены преданием; но разве наука, во имя которой мы вооружаемся против этих воззрений, — дело вчерашнего дня? Разве ее давность не превосходит исторический возраст любого из существующих народов?... Нет, и тысячу раз нет! Будем служить народу, но не будем служить народным предрассудкам; будем прислушиваться к голосу народа, но не дадим ему заглушить голос разума. «Всё для народа», потому что он несчастен; ничего посредством народа, ничего «чрез народ», потому что он неразумен и невежествен. Читатель понимает, что я до сих пор не свои мнения развивал, а чужие воззрения излагал. Всё это и еще многое другое я вычитал в произведениях наших народников-беллетристов, к их, быть может, искреннему удивлению, так как они только в редких случаях решались теоретизировать. Собственно же у г. Златовратского я прочел в двух увесистых томах его очень талантливых произведений вот что: «всё для народа, всё чрез народ, всё у народа, все к народу, всё из народа, нет ничего, кроме народа». Да, г. Златовратский действительно последовательный народник!
Г. Златовратский, наряду с Решетниковым и Глебом Успенским, может считаться представителем и главою известной фракции народничества. Решетников с Николаем Успенским, Слепцовым и Якушкиным — вот первая (хронологически) из народнических фракций, специальность которой состояла в фотографически точном воспроизведении народного быта. Глеб Успенский и, если не ошибаюсь, г. Эртель представляют собою вторую фракцию, которая не довольствуется знанием быта народа, внешних форм его жизни, а стремится постичь его душу, понять его внутренний мир, его психологию. Третья фракция — гг. Наумов, Засодимский, Каронин с г. Златовратским во главе — как будто задалась целью не столько изучить, сколько всякими цветами расцветить и всякими похвалами расхвалить народ.
Решетников явился Колумбом нашего народа, реального, живого мужика, а не того конфеточного страдальца, каким изображался мужик у Григоровича, а частью и у самого Тургенева. Глеб Успенский явился печальником о народе, с проповедью к нему той любви, которая характеризуется поговоркой: «Кто крепко любит, тот больно бьет». Г. Златовратский является даже не адвокатом народа, глубоко убежденным в его «невиновности» и страстно защищающим его интересы, а коленопреклоненным жрецом, который с экстазом поет хвалебные гимны своему божеству, не допуская ни тени скептицизма не только в себе, но и в других... Любопытно решить (потому любопытно, что г. Златовратский — крупная литературная величина), откуда наш «последовательный народник» почерпнул эту несокрушимую веру в народ и эту ничем не смущающуюся любовь к нему?... Настоящее объяснение заключается в том, что г. Златовратский по складу своего ума, по всему своему духовному типу является не русским только человеком, а чистокровным великорусским мужиком, со всеми его общеизвестными достоинствами и недостатками. Это умный и проницательный писатель-мужик... В любви своей к народу, к «своим», г. Златовратский более чем искренен, — он фанатичен. Но читатель для него вовсе не «свой», и он с ним не панибратствует, как Г. Успенский, не изливается перед ним, не откровенничает, не смеется, не плачет, — все это «одно малодушество», — он медленно, незаметно, но верно, шаг за шагом, страница за страницей, приводит его в свою веру...
...Г. Успенский, как бы он ни бранил нас, интеллигенцию, все-таки нашего поля ягода, тогда как г. Златовратский между нами все равно, что данаец между троянцами... Успенский страстно любит и жалеет народ, наблюдает и изучает его, с волнением рассказывает нам о нем, но все это он делает как человек, все-таки посторонний народу, как человек окультуренный. А г. Златовратский — чистокровный русский мужик, интеллигентный тургеневский Хорь, который «произошел» нашу науку, перечитал все наши книжки, но остался верен своей природе и во всякое время готов променять общество какого-нибудь Дарвина или Спенсера на общество дяди Митяя или дяди Миняя[1]. В то время, как Успенский изнывает от тоски, глядя на деревенскую неурядицу, на развращение деревни городом и т. д., г. Златовратский сохраняет перед лицом этих фактов свое обычное эпическое спокойствие, и это не спокойствие равнодушия, а именно тот «полный гордого доверия покой»[2], о котором говорил Лермонтов. Причина понятна. «Что такое народ?». Я сам народ, говорил толстовский Левин, и говорил напрасно, потому что он совсем не народ. Но г. Златовратский это может сказать о себе, и потому... он вправе оставаться спокойным даже в крайних случаях, когда нам нельзя не скорбеть и не волноваться. Душа г. Златовратского — частица великой народной души, а народ наш, как коллективное целое, не только спокоен, но и флегматичен. Происходит эта флегматичность от разных причин, но, между прочим, и от сознания или от инстинкта, что перемелется — мука будет, что гибнут отдельные личности, но народ живет и будет жить, и выстоит, и всё вынесет:
Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе[3].
Для всех нас — это только вера, которую надо поддерживать; для г. Златовратского — это воздух, которым он дышит, даже не помышляя о нем и не замечая его...
...Оптимизм г. Златовратского трудно чем-нибудь смутить, потому что он вытекает из оптимизма самого народа. Благодаря этому оптимизму самые жгучие и болезненные деревенские вопросы... разрешаются очень просто и ко всеобщему удовольствию...
...Нет, не заразимся мы оптимизмом г. Златовратского, не поверим автору и не пойдем за ним, а будем говорить и без устали повторять, что великий народ наш невежествен и несчастен, что «безрассветная, глубокая ночь»[4], окутавшая своим мраком его жизнь, может быть побеждена только солнцем науки, что «всё субстанциональное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно, подло»[5], по энергическому выражению Белинского. Реформировать это «определение», т. е. практические формы народной жизни, в духе прогресса и просвещения не значит «опекать» народ, как иронически выражается г. Златовратский, а значит служить ему, исполнять, в пределах своих сил и своего разумения, ту самую задачу, которую Беранже вменяет в первую обязанность всякого «великого человека», «божьего посланника»[6]. Расточать приторные комплименты, конечно, гораздо легче...
...Мы терпеливо следовали за г. Златовратским в его поисках за светлыми явлениями в будничной жизни нашей деревни и, как видел читатель, не оставили ни одного восторженного указания автора без охлаждающих комментариев[7]. Читателю судить, кто более прав из нас — автор ли со своим оптимизмом, или я со своим скептицизмом. В симпатии к народу я не хочу уступать г. Златовратскому, но идолопоклонствовать перед народом не станет ни один человек, умеющий ценить и уважать великие блага просвещения...
...Было бы несправедливо на этом и закончить статью. Я убежден, что время оптимистической идеализации народа и порядков его жизни прошло или проходит, но это совсем не значит, что прошло время и г. Златовратского... Нет, деятельность г. Златовратского, как бытописателя народа, наряду с деятельностью Решетникова и Г. Успенского, является не фактом прошлого, а фактом самого животрепещущего настоящего.
Нельзя плодотворно работать, не зная своей страны, а у нас, как я доказывал выше, вне народа и вне духовной связи с ним всё не более, как «мираж на болоте», говоря выражением Каткова. Я высоко ставлю деятельность нашей интеллигенции вообще и литературы в частности именно потому, что она, при всех своих ошибках и неизбежных уклонениях, всегда имела в виду народное благо, так или иначе понимаемое. Но где же и как искать этого правильного понимания? Прежде всего, конечно, в силах собственного разума и в глубине собственной совести, а затем в тех источниках, в которых более или менее отразилась духовная личность народа. Вот наша история... вот памятники народного творчества, наши былины, песни, сказки; вот законодательные акты, касающиеся экономической жизни народа; вот любопытный свод разнообразных учений, возникавших и возникших среди народа, и вот, наконец, длинный ряд живых и тщательных наблюдений, сделанных над деревней, в ее праздники и в ее будни, сделанные людьми, сумевшими непосредственно сблизиться с народом! В нашем перечне документов и источников народоведения едва ли не самыми важными являются именно литературные документы, между которыми произведения Решетникова, Г. Успенского, Златовратского занимают центральное место.
Комментарий и примечания
Впервые: Русская мысль. 1891. № 5, 6.
Статья написана в связи с выходом в свет «Собрания сочинений» Н. Златовратского в двух томах. Она явно переросла уровень «рецензии» и превратилась в полемику критика с писателем-народником, в творчестве которого «народнический романтизм» проявился особенно ощутимо. Главное внимание Протопопов уделил не роману «Устои», а «Деревенским будням», как «самому значительному произведению г. Златовратского», равному «лучшему произведению Г. Успенского “Власть земли”».
1. Дядя Миняй и дядя Митяй — мужики из поэмы Гоголя «Мертвые души», роль которых в сюжете говорит о том, что Гоголь был далек от идеализации крестьянства. В статье, написанной с целью развенчания веры Златовратского в «народные идеалы» и в «идеальный» народ, критик уместно вспомнил об этих персонажах.
2. Цитата из стихотворения Лермонтова «Родина».
3. Цитата из стихотворения Некрасова «Железная дорога».
4. Цитата из стихотворения Некрасова «Ночь. Успели мы всем насладиться...»
5. Цитата из письма Белинского В. Боткину от 13 июня 1840 г. В полном виде мысль Белинского выглядит так: «Любовь моя к родному, к русскому, стала грустнее: это уже не прекраснодушный энтузиазм, не страдальческое чувство. Всё субстанциальное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно, подло». Это высказывание использовано Протопоповым и в качестве эпиграфа к статье как вызов «прекраснодушию» Златовратского.
6. В полном тексте статьи этой мысли критика предшествует цитата из стихотворения Беранже:
Ne sers quelui...
Sa cause est sainte. Il souffre; el tout grand honme
Auprès du peuple est l’envoyé de Bleu, —
что означает: «Служи только Ему. Его дело святое. Он страдает. И всякий великий человек Народа является посланником Бога».
7. В IV главе Протопопов обстоятельно анализирует сущность «народных идеалов», сформулированных самим Златовратским так: «В набросанной нами схеме народно-бытовых основ существенную роль играют четыре элемента: 1) гарантии нравственной индивидуальной свободы; 2) гарантии равноправного участия личности в общинных сходах и судах; 3) гарантии равного экономического благосостояния членов общины, достигаемого правом общего труда и общего пользования результатами его, и 4) общинная помощь во всех тех случаях, когда первые три гарантии окажутся недостаточными для охранения прав личности» (С. 437). Использовав материал очерков самого Златовратского и очерка Г. Успенского «Канцелярщина общественных отношений в народной среде», критик пришел к выводу, что «“схема” г. Златовратского есть схема не фактов, а принципов. Община как идеал, как мыслимая форма жизни совершенно подходит под определения г. Златовратского... но живой русской общине, с ее неурядицей, с ее двусмысленною «справедливостью», с ее беззащитною бессознательностью, не будет от этого легче».
Из статьи «БЕЛЛЕТРИСТЫ НОВЕЙШЕЙ ФОРМАЦИИ»
М. Горький: «Очерки и рассказы». Том III. СПб., 1899 г.
Тан: «Чукотские рассказы». Спб., 1900 г.
В. Вересаев: «Очерки и рассказы». СПб., 1899 г.
...Мы не были неблагодарными. Нам, в пору нашей молодости, не приходило в голову поучать стариков уму-разуму, хотя и приходилось не соглашаться с ними...; шестидесятники считали себя продолжателями людей сороковых годов (вспомним глубокое и почтительное уважение Чернышевского, Добролюбова, Писарева к Белинскому, Герцену и др.), точно так же как мы, семидесятники, считали себя очень многим обязанными людям предыдущей эпохи. Это понятно: все мы, при всех наших частных разногласиях, стояли на одной и той же нравственной почве. Униженных и обиженных мы не презирали, а, наоборот, в их поддержке и защите усматривали единственно достойную человека цель существования и деятельности... Как идти к униженным, где особенно трудно дышится и наибольшее горе слышится[1], об этом мы спорили и со своими предшественниками, и между собою. Но никаких разногласий не существовало у нас относительно той самой заповеди, идеи долга: иди и служи... Ничего другого и не делали как люди 40-х, так и люди 60-х и 70-х годов во всех сферах практической и теоретической деятельности. Между ними существовала тесная нравственная солидарность, благодаря которой в их деятельности была известная преемственность.
Теперь на наших глазах происходит нечто совершенно иное. Нас не сменяют — нас упраздняют, а с нами вместе и тех, разумеется, которые имеют общую с нами генеалогию, — наших отцов, дедов и прадедов: все мы одинаково повинны в том, что любили ближнего, а не дальнего, помогали слабому, а не сильному, стремились к равноправности, а не к усугублению неравноправности...
Повторяю: со времени Радищева и Новикова, на протяжении почти всего девятнадцатого столетия, идеалы лучших русских людей в общем были одни и те же:
Над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря![2]
Просвещенная свобода, умственное развитие рука об руку с уважением к закону, для всех равно обязательному, — вот каков был идеал Пушкина, и разве не о том же мечтал Радищев, и разве не к тому же стремились и стремимся мы? Смею думать, голоса наших «отцов», таких, как Чернышевский, Некрасов, Добролюбов, наших «дедов», — таких как Белинский, Герцен, Аксаковы, наших прадедов, как Пушкин, Рылеев, Бестужев, наших прапрадедов, как Радищев и Новиков, и даже голоса родоначальников нашей литературы — Ломоносова и Кантемира, слились бы в один громовой крик негодования, если бы эти деятели дожили, как имели несчастие дожить мы, до всеторжественного провозглашения «прогрессивной» формулы: «увижу ли, друзья, народ закабаленный!» Знаменитое приглашение русскому народу «вывариться в фабричном котле» никакого другого смысла не имеет и никак иначе истолковано быть не может.
Я, впрочем, имею здесь в виду не наш так называемый марксизм как экономическое учение, а ту новейшую мораль, на почве которой наш марксизм мог вырасти и заявить о себе... Не трудно понять... успехи у нас ницшеанства с марксизмом. Я ставлю эти два течения мысли в теснейшую зависимость и, пожалуй, причинную связь: без дерзкого ницшеанства не было бы и самоуверенного марксизма. Наш русский марксизм не только экономическое, но и этическое учение...
...Экономические процессы, совершающиеся в жизни нашего народа, представляют собою отнюдь не ломку; это процессы органические, начало которых может быть указано во времени с полной точностью: 19 февраля 1861 года... Русский народ... не спасует перед вашим капитализмом... «Так русская печь печет», не помню, кому принадлежит это выражение, но в нем есть смысл и отнюдь не квасной. В этом не разочаруют нас никакие проявления народной темноты, и мы надеемся полюбоваться не тем, как наш пахарь будет вывариваться в фабричном котле, а тем, как западный капитализм будет выпекаться в нашей печи…
Комментарий и примечания
Впервые: Русская мысль. 1900. № 3, 4.
Статья написана с присущим Протопопову полемическим задором. Она отличается необъективной оценкой произведений указанных авторов. Отождествив «взгляды» персонажей Горького с «точкой зрения» автора, критик обвинил писателя в одобрении «вседозволенности»; в «Чукотских рассказах» Тана обнаружил восхваление «культа силы»; анализируя повести Вересаева «Без дороги» и «Поветрие», он пришел к выводу, что позиция автора «уклончива»: «Моя позиция состоит в том, что я говорю народникам: вы ошибались и ошибаетесь, а марксистам: вы совершенно неправы, тогда как г. Вересаев говорит народникам: вы правы, а марксистам: не могу с вами не согласиться».
Это было замечено современниками: «Личные счеты поколений не позволяют г. Протопопову сказать беспристрастного, правдивого слова» (Мир Божий. 1900. № 6).
1. Здесь Протопопов повторяет процитированный отрывок из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо: «Иди к униженным, / Иди к обиженным — / По их стопам, / Где трудно дышится, / Где горе слышится, / Будь первый там!»
2. Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Деревня».
Комментарии и примечания Б. М. Козлова
К печати и интернет-публикации текст подготовили А. С. Власов и Н. А. Лобкова