
Стожаров В.Ф. Ледоход на реке Костромке. 1959. Х.М. Костромской обл. музей изобр. искусств.
Леонид Андреевич Колгушкин
КОСТРОМСКАЯ СТАРИНА
Воспоминания
Во 2-4 выпусках нашего альманаха была помещена "Костромская старина" Леонида Андреевича Колгушкина (1897-1972 гг.) — подлинная энциклопедия быта и нравов Костромы начала ХХ века. С этого выпуска начинаем публикацию другого большого труда Л.А. Колгушкина — его "Воспоминаний", являющихся как бы второй частью "Костромской старины". Однако, если в "Старине" повествование о старой Костроме велось отвлеченно и личность рассказчика прямо была не видна, то в "Воспоминаниях" давно ушедшая жизнь города проходит перед нами в рассказе о судьбе самого автора и его близких. В этом выпуске помещается начальная часть "Воспоминаний", посвященная детству и юности Л.А. Колгушкина.
Редколлегия "Костромской земли" благодарит вдову Леонида Андреевича — Елену Ивановну Колгушкину, любезно предоставившую в наше распоряжение текст "Воспоминаний", который мы и предполагаем опубликовать с некоторыми сокращениями. Когда человеком прожита большая часть жизни, когда его возраст перешагивает за 50-60 лет, он невольно оборачивается на пройденный жизненный путь и начинает анализировать свое прошлое.
Так ли он прожил лучшие свои годы?
А может быть, надо было жить по-иному?
И вот в памяти этап за этапом проходит всё пережитое.
Человеческая память хороша тем, что она ярче сохраняет в мозгу хорошее и затушёвывает все жизненные трудности, неприятности, острые горя. "Время излечит", — как часто говорят люди.
Людям моего поколения вышла на долю тяжёлая, полная неожиданностей жизнь. Я пережил три революции, три больших войны, ломку старого империалистического строя, переоценку всех ценностей и живу сейчас при социализме, а поэтому мне есть о чём рассказать в письменной форме.
Я — не писатель. Я не написал ни одного произведения ни прозой, ни поэзией, кроме служебных бумаг, циркуляров, отчётов, приказов, инструкций и небольших газетных статей и заметок, — а потому намеченные мною воспоминания, конечно, будут иметь литературные шероховатости. Я утешаю себя тем, что пишу это не для широкого круга читателей, а только для себя и своего потомства, если оно пожелает и найдёт время заглянуть в эти строки.
За всю свою жизнь я не совершил ни одного героического подвига на полях битв, мне не пришлось бороться за высокие удои молока или показательные привесы молодняка. Жизнь, как бурное море, бросала меня из одной профессии в другую. Я был офицером, чернорабочим, краскомом, сотрудником милиции, и, наконец, житейское море выбросило меня на скромный мирный берег учительской работы, которой я посвятил более 30 лет. Могу только сказать, что за всю мою долгую жизнь я сознательно не совершил ни одного неблаговидного поступка, не причинил ни одному человеку незаслуженной им неприятности. Всю свою жизнь я жил для людей, для общества, для своей семьи.
Сейчас я не у дел. Я получил заслуженный отдых, обеспечен государством самой большой для "простых смертных" пенсией, а главное — имею много свободного времени, чтобы много читать, мыслить, писать, пока ещё позволяет здоровье, зрение и память.
Очень трудно писать о себе. Читая мемуары великих и замечательных людей, где они почти все указывают, что самое трудное — это описывать свою личную жизнь, я этому как-то не верил. Сейчас же я убедился, что всё это именно так. Каждый мемуарист как бы раскрывает перед людьми свою душу. Кроме того, он должен писать объективно, правдоподобно и без прикрас.
Мне несколько легче писать потому, что большинство людей, с которыми мне приходилось сталкиваться на своём жизненном пути и которые имели то или иное влияние на мою жизнь и на формирование моего характера, уже завершили свой жизненный путь — потому я буду называть их подлинные фамилии и имена. В исключительных случаях ныне живущих посторонних людей буду обозначать инициалами. Названия улиц, площадей и различных предприятий, существовавших в дореволюционное время, буду называть по-старому с выноской на поля новых названий а.

Власьевская улица от Духовской улицы к центру Ярославля
Я родился 21 августа ст.ст. 1897 года в городе Ярославле, в небольшом каменном двухэтажном доме, на углу Власьевской и Духовской улиц (ул. Свободы и Республиканской). Этот дом существует и поныне. Когда спустя сорок лет, обучаясь заочно в Ярославском педагогическом институте, во время очных сессий проходил мимо этого дома, я всегда вспоминал эти места, где получил право на жизнь.
Говорили, что я родился полуживым, так как был при рождении задушен пуповиной и так называемой "сорочкой". Только благодаря опытности акушерки, через 40 минут удалось получить мой первый вздох. Мама впоследствии говорила, что отец был очень рад рождению мальчика и плакал навзрыд, умоляя акушерку: "Спасите мальчика!". Видимо, хороший массаж и ванны, а также изрядное моё здоровье побороли, и я издал первый басистый крик. При рождении весил я слишком двенадцать фунтов. У родителей я был шестым ребёнком, а из живых — вторым. Во время моего рождения отцу — Андрею Ивановичу — было 36 лет, а матери — Лукии Денисовне — 32 года, следовательно, они в то время были в полном расцвете сил.
Отец работал управляющим пивным складом известных ярославских пивоваров Дурдина и Адамца. Во дворе дома были склады, в нижнем этаже дома — пивная, а вверху — наша квартира. В настоящее время в этом доме находится продовольственный магазин.
С моим рождением нас, детей, стало двое. Кроме меня, была старшая сестра Женя, 9 лет, которая готовилась к поступлению в гимназию.

Пристани на берегу Волги
Недолго пришлось мне жить в Ярославле. Моего отца по его просьбе перевели в Кострому. На берегу реки Волги, на Набережной улице, как раз против пристани об-ва "Самолёт", в небольшом двухэтажном каменном здании, рядом с богадельней, по воле ярославских хозяев была открыта гостиница под громким названием "Волна", а также пивной склад. Отец в основном всё время находился на складе, а мать за буфетом в чайной, которая была излюбленным местом пароходских команд, волжских грузчиков и извозчиков-татар. В верхнем этаже были несколько номеров и отдельно наша квартира. Какова была эта квартира и её расположение — я не помню, мал был. Вскоре у меня появился братишка Володя, который был моложе меня на год с небольшим.
Помнить себя я стал на четвёртом году. Первое, что мне запомнилось на всю жизнь — это ясное весеннее утро, тающий снег, ручейки. Я стою среди обширного двора, около большой помойной ямы и детской лопаткой прокапываю канавку для ручейка. Большой красный петух с красивым чёрным хвостом взлетает на помойную яму, взмахивает крыльями и громко поёт. Я им залюбовался. Подальше, около конюшни, кучер чистил лошадей и оттуда доносился запах конюшни, который остался приятен мне на всю жизнь. Меня с самого раннего детства влекли к себе лошади. В распоряжении отца были две рабочие лошади гнедой масти — Машка и её дочь, Зорька. Надо сказать, что отец был страстный любитель лошадей и эта страсть, видимо по наследству, передалась и мне. Не было дня, чтобы я по несколько раз не заходил в каретный сарай и в конюшни, чтобы погладить мягкие губы лошадок.
Помню, у той же помойной ямы, которая являлась любимым местом для сборища всех детей этого двора, я увидел, что двое татарских мальчиков что-то едят. Я спросил: "Что вы кушаете?"
— Конскую колбасу, — отвечали те.
— Дайте мне попробовать.
Я, конечно, был сыт, но хотел узнать, что такое конская колбаса. Один мальчик отломил кусочек. Я съел — с каким аппетитом, не помню — но, прибежав домой, сказал маме, что теперь стал татарином. "Почему?" — спросила мама. — "Я ел конскую колбасу". Конечно, мама меня отругала за то, что я взял и ел колбасу из чужих грязных рук и теперь заболею животом. Я не заболел, и всё прошло благополучно.
У нас была няня Пелагея, женщина уже лет под сорок, которая вначале водилась со мной, а потом с нами обоими. Меня очень удивляло, что няня Пелагея никогда не ела мяса и мясного. Она отвечала, что дала зарок не есть мясного до смерти, после того как умер её муж. "А что такое зарок и кому ты его дала?" — спросил я. "Зарок — это обещание, а дала я его Богу" — отвечала она. "А ты поешь, Бог ничего не узнает". — "Бог всё знает и всё видит". После этого меня очень заинтересовало, что такое Бог, где он живёт и нельзя ли его увидеть. Я получил исчерпывающие ответы, которые меня вполне удовлетворили.
Помню в нашей детской большую красивую икону в богатом киоте и висящую перед ней на золочёных цепях большую красную лампадку, которую зажигали вечером в субботу и в воскресенье. Перед этой иконой нас заставляли молиться ежедневно утром и на сон грядущий. Мама или няня читали вслух молитвы, а мы должны были креститься и кланяться. Мы засыпали под сказки или тихое монотонное пение няни Пелагеи.
Сестра Женя жила в другой комнате, и в эти годы я представляю её очень плохо. Я знал, что она учится в гимназии, а вечерами готовит уроки. С нами она почти никогда не бывала.
Зимой и летом мы очень много гуляли с няней по Набережной. Против нашего дома, на горке, стоял целый ряд деревянных торговых полков со всевозможными продовольственными товарами. Тут продавались различные сладости, фрукты, красивые шоколадные бомбы и разные шоколадные фигурки, монпансье в металлических коробочках, копчёная вобла, колбасы, сыры, селёдки, сдобные булочки, баранки, бутерброды и пр. Особенно привлекателен был запах смеси фруктов, копчёностей и ещё чего-то, страшно аппетитного. Нередко мама давала няне денег и та покупала нам фрукты или бутерброды с зернистой икрой, которые мы очень любили.
Сделав закупки в ларьке Котова, мы направлялись на Маленький бульварчик. В корзиночке у няни всегда была бутылка с фруктовым квасом, чашечки и что-нибудь из домашнего печенья. Там на лужке мы играли, лазая по горе, закусывали и возвращались домой только к обеду.

Малый бульвар. Фото начала XX в.
Мы очень любили гулять по самому берегу Волги, заходить на пристани и любоваться пароходами, которых в то время было очень много, и все они отличались чрезвычайно громкими свистками, по которым можно было определить даже название парохода. По берегу стояло не менее восьми пристаней, причём каждая из них отличалась от другой цветом своей окраски, в соответствующий цвет были окрашены и пароходы. Так, об-ва "По Волге" были белые, самолётские — розовые, об-ва "Русь" — оливковые и т.д.
Больше всего нас, детей, интересовали, так называемые, американские пароходы об-ва "Зевеке". Эти были большие, белые, с деревянным корпусом пароходы, с двумя высокими трубами и огромным задним колесом. Помню некоторые их названия, как-то: "Амазонка", "Миссисипи", "Алабама", "Миссури". Несколько позднее появились уже более усовершенствованные, с одной трубой, но также с задним колесом. Названия их соответствовали драгоценным камням: "Алмаз", "Изумруд", "Топаз", "Бирюза" и пр. Все эти пароходы отличались тем, что были самые тихоходные и самые дешёвые. Они были товаро-пассажирские. Груз помещался в трюмах, а на нижней палубе возили скот. Это-то нас, детей, и влекло к ним. Мы любовались огромными быками, коровами, телятами, овцами и особенно лошадьми. Рогатый скот в основном возили для убоя, а лошадей — для продажи на конных ярмарках.

На пристани в центре Костромы
Помню один трагический случай, который мне впервые в жизни пришлось наблюдать. Дело было летом, после дождя. Грузчики на седелках носили по трапам большие бутыли с серной кислотой. Один из них поскользнулся, бутыль лопнула, и он оказался весь облит кислотой. Несчастный сразу же бросился с мостков в воду, страшно крича от боли и испуга, но вскоре упал и был вытащен из воды уже замертво. Я очень напугался, и мне было чрезвычайно жаль человека. Я сильно заплакал. После этого случая, под этим впечатлением, я ещё долго задавал вопросы няне и родителям: "Почему грузчики в лаптях, почему они носят такие большие тяжести и почему они так плохо одеты?". В том возрасте это слово "почему" было самым употребимым — ведь я вступал в человеческое общество и знакомился с окружающим меня миром. (В то время я не предполагал, что через 18 лет с такой же седелкой и крюком я буду бегать с тюками и мешками по таким же трапам и мосткам). Иногда это "почему" доходило до комизма. Так я, видя старух-нищих или опекаемых в соседней женской богадельне, — спрашивал няню: "Где родятся такие страшные и злые бабушки и почему дедушки не такие?". И я не верил, что они были такие же маленькие и потом молодые: "А я думал, что бабушки родятся от Бабы-Яги сразу старыми".
Зимы мы также проводили нескучно. Нас одевали в синие суконные поддёвки, подпоясывали красными кушаками, на головах были чёрные меховые шапки-ушанки, а на ногах чёрные валенки. Оба брата были одеты совершенно одинаково.
Затихала летняя суета на Волге. Пристани уводились в затон реки Костромы, пароходы уходили куда-то вниз по Волге — вероятно в Нижний Новгород, — издавая печальные, продолжительные прощальные свистки, торговые полки закрывались, за исключением двух-трёх. Река покрывалась прочным ледяным покровом. Все скрывалось под белым снежным пологом.
Первые годы настоящего столетия отличались очень суровыми зимами. Морозы временами доходили до 40-45° по Реомюру. Нередки были случаи, когда птицы мёрзли на лету.
Мы и зимой находили себе развлечения: катались на санках с берега прямо на лёд, во дворе делали снежных баб и крепости. Далеко от дома нас не водили. Посещение Маленького бульварчика прекращалось до весны. Рано наступал вечер.

Мать, сестра Женя, брат Володя на руках
и маленький Леонид (с конем).
В тёплой детской комнате, при свете маленькой керосиновой лампы, мы придумывали различные игры. У нас было много игрушек, но больше всего нам нравился детский мебельный гарнитур, состоящий из маленького столика, двух стульев и небольшой скамеечки, разрисованный орнаментом в древнерусском стиле в чёрный, красный и золотой цвета. Из игрушек преобладали жестяные заводные велосипедисты, конки, волчки, а также кубики с картинками, из которых мы строили дома, пирамиды, арки и пр. Не обходилось и без ссор, причём братишка Володя, несмотря на то, что был моложе меня, своим громким криком и капризами всегда брал верх, а я, по скромности, отступался. За это мама меня не поощряла, а называла увальнем и тряпкой. Надо сказать, что уже в том возрасте я был кругленьким здоровяком, с весьма приличным неразборчивым аппетитом, немного флегматичным. Я никогда не бывал сильно возбуждён, не капризничал и не любил особенно шумных игр. Володя же был худощав, разборчив в пище, подвижен, капризен и эгоистичен. Два брата, но противоположны по конституции и темпераменту. Я был больше похож лицом на маму, а Володя на отца. Я был любимцем отца, а он матери, но эти симпатии родителей мало были заметны нам, детям, и мы от этих отношений буквально никак не страдали.
Особенно у меня сладки остались в памяти воспоминания о поздних вечерних часах, когда время приближалось ко сну. Няня Пелагея бесхитростно рассказывала нам сказки о Мальчике-пальчике, Бабе-Яге, о Бове-королевиче, который играл на гуслях, привлекая к себе зверей и птиц, про богатырей и злых людоедов.
Родители мои были всегда очень заняты и мало уделяли внимания нашему воспитанию. В основном их забота выражалась в том, чтобы нас поприличнее одеть и хорошо накормить.
Ещё одно приятное воспоминание осталось в моей памяти от жизни на берегу Волги — это весенний ледоход. Это была величественная картина… С первыми весенними лучами лёд на реке начинал синеть, быстро увеличивались закраины, вода прибывала с каждым часом и Волга разливалась в ширину. Наконец наставал момент, когда лёд с верховьев Волги наступал и проталкивал стоящий внизу лёд. Начинался треск, льдины крошились, напирая одна на другую, образуя торосы и даже целые ледяные горы, которые с грохотом рушились в воду. Треск и шум всё более и более усиливались, если впереди образовывался затор. Это всегда бывало на перекате у Татарской слободы. Ледоход, ничем не сдерживаемый, продолжался не менее двух суток. Чего только ни несло на льдинах. Я видел собаку вместе с её конурой, живого петуха на смытом сарае. Говорят, нередки были случаи, когда мимо города проносило на льдинах людей, которых при полном ледоходе спасти было очень трудно. Надо отдать справедливость, что в таких случаях для спасения утопающих, рискуя собственной жизнью, татары слободы всегда выезжали на собственных лодках с баграми, верёвками и шестами и снимали со льда утопающих. Ведь все они были коренные волгари, многие кормились Волгой, работая на пароходах и баржах. Весна и ледоход для них были источником дохода — они вылавливали плывущую древесину и на весь год обеспечивали себя топливом. Большую прибыль давала и рыба.
Стихийный ледоход свободной Волги, не зависимый от искусственно созданных пут, которыми в настоящее время обуздали Волгу, как-то: Рыбинское и Костромское моря, плотины и шлюзы ниже Костромы, а также железнодорожный мост — укротили бурный разлив реки и в то же время лишили горожан чудесной картины этого могучего проявления природных сил нашей матушки Волги.
Недолго было наше проживание на берегу красавицы реки. Мой отец начал прихварывать, пошли какие-то тяжбы с хозяевами, и ему пришлось отказаться от работы. Предприятие это по воле хозяев было ликвидировано.
В это время на Ивановской улице уже достраивался наш собственный дом, в который мы и переехали в конце 1901 года.

Дом Колгушкиных на Ивановской улице.
Я знал, где эта Ивановская улица и где строится наш дом, так как почти каждый день ходил с отцом на стройку. Как раз в то же время наискосок строился такой же деревянный дом, в котором предполагалось открыть школу для девочек и назвать ее епархиальным женским училищем. Заглядывал я и туда. Земля под наш дом была куплена после сгоревшего дома у еврея-ростовщика Галинского.
Путешествуя на новостройку, я обогащал свою память новыми для меня словами, понятиями и явлениями. Здесь я видел строительных рабочих, которые во время «перекурки» подсаживались к нам на бревна, советовались с отцом, высказывали свои соображения, а отвлекаясь, много говорили о своей личной семейной жизни, о деревне, несправедливости начальства, о бедности и пр. Заходил на стройку и старик Галинский, большая седая борода которого мне очень нравилась, и я спрашивал отца, почему у него нет бороды, а растут только усы.
Тут же на строительстве я от кого-то узнал новость, которая произвела на меня большое впечатление. Говорили, будто бы Галинский нарочно сжег свой дом, так как очень дорого застраховал его в нескольких страховых обществах, а на пожаре подкупил пожарных, чтобы они похуже тушили. Я никак не мог понять, для чего нужно сжигать свой дом, а что такое страховка — это уж было для меня совсем непонятно. «Папа, мы с тобой тоже будем сжигать наш дом?»— спрашивал я отца и тут же уже рисовал картину, как мы с ним соберем щепки, польем керосином и подожжем, а пожарным дадим денег, чтобы они плохо гасили.
(…)
Болезнь папы осложнялась. Ноги ходили плохо, и ему пришлось легкую тросточку сменить на солидную палку с резиновым наконечником. Он много лежал в постели и никуда не ходил, кроме Ивановской улицы.
Наконец, дом был отстроен. Начались серьезные сборы и переезд. Имущество возили на лошадях, Машке и Зорьке. Было очень много перевезено дубовых пивных бочек и каких-то ящиков, которыми заполнили весь каретный сарай.
Мы в доме заняли большую квартиру вверху, в правой половине. Самая большая комната с окнами на улицу была названа залом. Там поставили мягкий диван, два кресла, шесть мягких стульев, обитых красивой материей с желтой, черной и красной расцветкой. Перед диваном был поставлен красивый овальный резной стол орехового дерева, который был покрыт тяжелой шерстяной скатертью, а на нее поставлена большая 30-ти линейная лампа в металлической подставке под оксидированное серебро, с барельефами и матовым абажуром в виде тюльпана. Кстати сказать, зажженной эту лампу я никогда не видел. Среди потолка была повешена большая лампа-молния — на цепях, с гирей и большим белым фарфоровым абажуром. На стенах — небольшие картины с видами Москвы в блестящих золотых багетных рамках. Между окнами на стенах были укреплены три бра, которые зажигались в особо торжественных случаях при приеме гостей. Рядом была столовая, далее по коридору одним окном во двор выходила наша спальня. Сестра Женя поместилась в маленькой комнатке над парадным крыльцом, а папа расположился в полутемной комнате против нашей детской. Мама спала с нами. Няня Пелагея устроилась на кухне за ширмой.
Вскоре справляли новоселье, но этот день я представляю плохо, так как нас к гостям не допустили и мы ограничились угощением в детской комнате. Помню только, когда ожидали гостей и зажгли в зале лампы, то они сильно накоптили. Поднялась паника, открыли все окна и двери, спешно произвели уборку.
В гостях были самые близкие друзья родителей: слепой отставной пехотный капитан Николай Антонович Василевский с супругой Екатериной Михайловной, сын фабриканта Михин Дмитрий Иванович, ростовщик-выкрест из евреев Павлов, проживавший на Ново-Троицкой улице (ул. Козуева), от которого мои родители, видимо, зависели материально. Он был в особом почете и часто заходил к нам запросто. Самым интересным для меня был мамин брат дядя Капитон. Других гостей было много, но припомнить их не могу.
В новом доме нам на первых порах доставили большую неприятность блохи, которых с осени было видимо-невидимо. Они кусались не только ночью, но и днем. Все мы, включая и взрослых, чесались без всякого стеснения. Никакие опыления «арагацем» не помогли, пока блохи сами не прекратили к зиме своего нашествия.
Осенью того же года наша семья увеличилась еще на одного члена — родилась сестрица Лиза.
(…)
Строя дом, мои родители собирались открыть собственный пивной склад с разливом пива разных заводов, для чего был под домом сделан каменный подвал с железными дверями, выходящими прямо во двор около черного крыльца четвертой квартиры, а рядом с каретным сараем, купленным вместе с землей у Галинского, был вырыт также большой подвал. Будущим квартиросъемщикам было построено пять дровяников с небольшими погребами в них.
Вверху над погребами, каретным сараем, конюшнями и флигелем под общей железной крышей был большой чердак для сена, склада различного скарба, а также для сушки белья. На этот чердак можно было проходить со стороны конюшен, а также с противоположного конца, от дровяников. Там была сделана прочная лестница с перилами и площадкой-балконом. (…) Особенно хороша была небольшая новенькая деревянная банька, выстроенная в садике-огороде, около забора. В ней был уютный предбанник, каменка, полок, деревянные скамейки и деревянный большой чан для горячей воды. Нагревался он посредством чугунной трубы, пропущенной в топку печи. Особенно приятен был запах нового дерева, березовых веников и еще чего-то. В этой баньке, кроме еженедельных общих помывок, по летам мы, дети, устраивали холодный душ, поливая друг друга из садовой лейки. Воду в баню возил водовоз Иван Кочетов, а если этой воды не хватало, то ее приходилось носить с городской водокачки, которая была на углу Гимназического переулка б и Русиной (Советской) улицы.
Мечтам родителей об открытии своего предприятия осуществиться не пришлось, так как болезнь отца развивалась и он должен был приступить к регулярному лечению. Местные врачи нашли у него сухотку спинного мозга. Эта болезнь, как правило, является следствием заболевания сифилисом, но отец им никогда не болел. Этот случай представлял большой интерес для медицинской науки. Началась переписка с Петербургской клиникой, где этой болезнью очень заинтересовались профессор-невропатолог Бехтерев и доктор медицины Карпинский. Вскоре моему отцу пришло приглашение приехать в клинику на консультацию и для возможного лечения. Ходил слух, что моего отца кто-то опоил ртутными солями. Во всяком случае, он в сорокалетнем возрасте оказался инвалидом-хроником. Биржевая артель назначила ему пожизненно пенсию в размере 100 рублей в год и стала регулярно выдавать единовременную помощь на лечение. Квартиры в новом доме были временно сданы жильцам. Лошади и бочки были проданы.
Первую зиму мы прожили в этой квартире, а следующим летом нам пришлось переехать во флигель, так как мама весь большой дом сдала по контракту на два года епархиальному совету под училище за 1200 рублей в год. Те тотчас же приступили к переоборудованию квартир, снимая перегородки и расширяя помещения до нужного размера классных комнат. Осенью отца вызвали в клинику, и мы остались одни с мамой и няней Пелагеей.

Муравьевский спуск
В то же время на Муравьевке началось строительство большого каменного дома для будущего епархиального женского училища. Строительство было окончено в 1906 году, а наш дом освобожден. (…)
Между тем у моих родителей начался судебный процесс с фирмами Дурдина и Адамца по поводу какой-то задолженности. Дело затягивалось, и родители с нетерпением ждали его разрешения в свою пользу. Как водится, строили планы, что и как осуществить на полученные по иску деньги. Так, по окончанию контракта с епархиальным советом, необходимо будет оштукатурить квартиры изнутри, хорошо бы купить корову. Отец писал из Петербурга, что ему рекомендуют поездку на курорт в Старую Руссу, а маме со всей семьей хотелось побывать на родине в селе Шестихине. Все это могло бы осуществиться, если дело с фирмой обернется в нашу пользу. Мы, мальчики, мечтали также о покупке "пугачей". Уж очень хотелось вооружиться красивыми, никелированными "браунингами", которые в то время продавались в игрушечном магазине Клеченова внутри гостиных рядов по 2 р. 50 коп. Они нам были обещаны.
Первый год жизни на Ивановской улице остался мне памятным по тому, как мы готовились и проводили праздник Рождества. На этот праздник мы ждали возвращения папы из Петербурга, а следовательно, обновок и гостинцев. Мне шел уже шестой год, и я считал себя большим, а потому старался держаться солиднее братишки Володи; иногда по некоторым хозяйственным вопросам мама со мной даже советовалась, а это мне очень льстило. В обычные базарные дни она часто, потихоньку от Володи, брала меня с собой на базар и по магазинам. Я во все вникал и ко всему присматривался.
Перед большими праздниками город оживлялся за неделю и даже раньше. Магазины заполнялись праздничными товарами, часы торговли увеличивались. Перед Рождеством оконные витрины красиво оформлялись разнаряженными елками, Дедами Морозами, Снегурочками, масками и различными украшениями. Этим выделялись аптекарские, галантерейные, игрушечные и парфюмерные магазины. Все лучшие мануфактурные и обувные магазины выставляли последний «крик моды». Колониально-гастрономические рекламировали на окнах и прилавках десятки сортов колбас, сыров, окороков ветчины, балыков рыб, икру и всевозможные консервы. Булочные и кондитерские украшали окна большими сахарными баранками, ромовыми бабами, баумкухенами, тортами, пирожными и красивым фигурным шоколадом. Спускаясь к мясному ряду, можно было видеть в рыбном ряду горы мороженой рыбы, которую сваливали на брезент прямо у дверей магазинов.
Меня больше всего интересовала лавка Невского, торгующая битой и живой птицей и дичью. Около дверей перед праздником стояли целые поленницы мороженых гусей, маленьких поросят, зайцев в шкурках и без шкурок, а в магазине по всем стенам находились клетки с живыми курами, петухами, индюшками, гусями, утками, цесарками и прочей домашней птицей, на прилавке и по стенам были разложены и развешены глухари, тетерева, рябчики, куропатки и прочая дичь. Купить можно было многое, но требовались немалые деньги, в которых основное большинство жителей крайне нуждалось, ограничиваясь только тем, что любовались на все эти товары, покупая лишь самое необходимое для ежедневного пропитания.
Мы с мамой шли на базар с небольшой базарной сумкой. Мама, благодаря своей умелой расчетливости и хозяйственной сметке, еще задолго до праздников умела подкопить «кругленькую» сумму денег и закупала все необходимое. В мясной лавке Цыбина или Веселова покупали окорок, мясо и прочие мясопродукты, и мы выходили из лавки, ничего не взяв с собой — товар доставляли на дом. Я любовался на приказчиков, как они ловко разрубали мясные туши на обрубке дерева тяжелым и широким топором, издавая при этой характерный выдох: «А-ах!» Дома пробовал подражать, но у меня ничего не получалось. Мне тогда очень хотелось быть мясником.
В лавке Невского мы заказали поросенка и гуся, а глухаря я выпросил взять тут же с собой. Пытался его нести, но это было мне не под силу, и пришлось нести его маме. По пути к рыбной лавке В.Н. Скалозубова купили икры, шпрот, килек и других рыбопродуктов. Базарная сумка была полна. Мы устали, а глухаря по Ивановской улице я тащил по снегу, держа за веревочку, завязанную на его шее, чтобы мои товарищи любовались моей покупкой. Мы были довольны и весело разговаривали, строя планы дальнейших походов по магазинам. Ведь в ближайшие два дня нам предстояло зайти в колбасную Головановых, в колониальный магазин Колкотина, в ренсковый погреб Сапожникова и аптекарский магазин Прокопенко.
Перед большими праздниками в колбасном магазине Головановых всегда собиралось очень много покупателей. Это была в основном зажиточная часть населения — буржуазия, чиновники, купцы, домовладельцы и духовенство. Некоторые подъезжали к магазину на собственных лошадях с лакеями, горничными и даже поварами, другие брали для этого извозчика, третьи, попроще, приходили пешком. За прилавками в эти дни были сами братья Головановы и человек десять приказчиков, ловко орудующих специальными ножами. Все они были одеты в черные костюмы с белоснежными фартуками и лакированными черными нарукавниками. Магазин был полон народу, но очереди не было, стояли в несколько рядов и подходили к прилавку без толкотни и сутолоки. Все же пришлось простоять не менее двух часов. Купленный товар тут же укладывался в корзины из широкой дранки, запаковывался и, по просьбе покупателей, к вечеру доставлялся на дом. Стоя у красивых витрин, я любовался товаром и ловкой работой приказчиков, решив твердо, когда вырасту, обязательно стать колбасником.
Далее мы с мамой шли налегке в магазин Колкотина, где закупили нужное количество грецких орехов, красивых, крепких «крымских» яблок, апельсинов и специальных елочных фигурных пряников и блестящих конфет — сосулек и матрешек. Эти конфеты имели красивую упаковку, но были почти несъедобны. Весь этот товар покупался для украшения елки и для гостинцев в пакеты. Мама не любила стеклянных елочных украшений, а потому елка, в основном, была завешена гостинцами.
Нагрузившись покупками, мы в этот день в ренсковый погреб не заходили, а только по пути в аптекарском магазине Прокопенко на Русиной улице купили для елки блестящего дождя, снега, палочки бенгальских огней, елочные свечи, несколько книжек с «золотом» для оклейки орехов. Елка была приобретена накануне праздника.
Наступили самые интересные зимние предпраздничные вечера, когда мы всей семьей подготовляли елочные украшения. Кто клеил цепи из толстой цветной бумаги и делал хлопушки, а кто подвязывал ленточки и шнурки к яблочкам, апельсинам, к пряничным барашкам, рыбкам, Снегурочкам и Морозам. Сестра Женя занималась золочением орехов, опуская каждый в яичный белок, а потом аккуратно обвертывала его в тончайший золотой листок. Когда орехи просыхали, к ним сургучом или маленьким гвоздиком прикреплялась петелька из узкой цветной ленты. Вечером в сочельник елку вносили в зал и ее украшением занимались мама и Женя. Нас до праздника туда не пускали.
Утром в сочельник из Петербурга приехал папа. Он привез нам гостинцы и подарок Жене, которая в этот день была именинницей. Нам очень понравилась прессованная кошка-монпансье, которую папа доставил прямо с кондитерской фабрики Ландрина. Вечером мама с Женей ходили на всенощную в церковь Бориса и Глеба, которая была на горке против губернаторского дома.
Праздничное утро началось с прихода со славой священника о. Алексея Андроникова с причтом церкви Бориса и Глеба. В столовой с утра уже был накрыт праздничный стол. По традиции того времени, на него ставились все закуски в том количестве, в каком они были закуплены. На блюде красовался запеченный окорок ветчины с розеткой из цветной бумаги, закрепленной на его ножке, рядом, также на блюдах, ставились зажаренные гусь и глухарь, а далее расставлялись на тарелках головка сыра, солидные куски и кольца различных колбас, консервы и прочие закуски. От всего нарезалось по несколько кусков, с расчетом, чтобы на закусочные тарелки всегда брать свежие куски. Целая батарея виноградных вин, настоек и наливок красовалась посередине стола, окруженная маленькими рюмочками. Закусочные приборы накрывались на 6-8 персон. Приходящее со славой духовенство приглашалось к столу и после легкой закуски пило чай.
Не ранее 10 часов утра появлялись первые визитеры. Приезжал Д.И. Михин, помещик Н.Е. Исаков, Павлов, старик-фельдшер Геннадий Давыдович Рубин, юнкер-артиллерист Борис Василевский, штабс-капитан Татауровский, друзья и ухажеры Жени — гимназисты, реалисты, техники и даже студенты, приехавшие домой на праздники. Как правило, визитеры приезжали на собственных лошадях или на нанятых извозчиках и дольше 10 минут не задерживались. Поздравив, они садились за стол, выпивали одну-две рюмки вина и, слегка закусив, уезжали. Папа выходил не ко всем. Пожилые иногда дарили нам 20-30 копеек на гостинцы, а няне, провожавшей их, давали чаевые. Некоторых мама приглашала на чай вечером.
Елка, богато украшенная гостинцами, картонажами, цепями, а на самой вершине несколькими красивыми шарами, засыпанная искусственным снегом, красовалась среди зала. Мы с нетерпением ждали, когда можно будет зажечь свечи и бенгальские огни, покружиться и побегать вокруг елки, а главное, получить гостинцы, которые были разложены в пакетах под елкой и прикрыты ватой.
С наступлением сумерек к нам приходили Василевские с тремя девочками — Тамарой, Клеопатрой и Лидией — и сыном Вячеславом, который уже тогда был моим другом. Были еще какие-то ребятишки, но их я не помню. Мы играли, бегали вокруг елки, танцевали при участии Жени и ее подруг, а в конце, утомившись и получив гостинцы, направлялись к себе в спальню, где нам был приготовлен чай с пирожными, печеньем и конфетами. В этот год елка стояла у нас до самого Крещения, а праздничный стол накрывался ежедневно в течение четырех дней.
Вечером у родителей всегда были гости. Мама днем ходила к Василевским и к другим знакомым, папа же всегда, из-за болезни, оставался дома.
(…)
Так в играх, забавах и всевозможных развлечениях проходила эта зима первого года нашей жизни на Ивановской улице. Пришла Масленица, и с первыми лучами весеннего солнца подошла Пасха. Опять началась подготовка к празднику. Мама и няня Пелагея постились весь Великий пост, а мы с папой ели скоромное. В четверг и в пятницу на Страстной неделе мама пекла вкусные куличи и делала сладкую творожную пасху. Мы с братцем усердно все пробовали и творожную массу, и сырое куличное тесто.
Впервые мама в Великий четверг взяла нас с собой в церковь на всенощную, где читали двенадцать Евангелий, а хор пел "Разбойника". Нам же доставляло большое удовольствие стоять со свечами. Когда мы уставали, то садились в кресла, которые нам любезно ставили около левого клироса. А еще нам очень понравился обычай зажигать под окнами разноцветные бенгальские огни и производить сильные выстрелы в церковной ограде. Говорили, что этим занимались не только подростки, но и взрослые мужчины, под наблюдением церковного старосты и дьячка-псаломщика. Как я потом узнал, выстрел получался от бертолетовой соли, которую клали на большой камень и ударяли другим камнем. Кроме того, стреляли из ружей холостыми зарядами. После всенощной почти все богомольцы шли домой с зажженными свечами, но в тот вечер из-за ледохода на Волге дул сильный ветер и никто из нас огня до дому не донес. Мы были расстроены, но все тут же было забыто.
В пятницу днем мы опять ходили с мамой в церковь на вынос плащаницы. Мне очень понравилось, что вокруг плащаницы было очень много цветущих гиацинтов, от которых очень хорошо пахло. Все подходили и целовали барельеф Христа.
В субботу мама варила и красила яйца в луковых перьях и в разных красивых красках, а мы ей помогали, вернее, мешали. В этот год на пасхальную заутреню, конечно, мама нас не брала, и разговение мы проспали.
Пасхальный стол отличался от рождественского тем, что на нем отсутствовали гусь, глухарь, поросенок, но зато рядом с окороком стоял большой, покрытый сахарной глазурью кулич с красным бумажным цветком и ставились в большой тарелке крашеные яйца и творожная пасха. Лучшим же украшением стола были плошки с белыми и розовыми гиацинтами, которые испускали аромат по всем комнатам.
В первые дни Пасхи также были визитеры с утра и гости к вечеру, но нам уже не сиделось дома — все дни мы были во дворе и на улице, слушая перезвон колоколов всех церквей города. Нам очень хотелось слазать на колокольню и позвонить, но родители, конечно, не разрешали. Мы очень любили катать крашеные яйца с соседними ребятами, но при строгом контроле няни.
Прежде чем продолжать описание моей последующей жизни, мне хочется вернуться на много лет назад с тем, чтобы осветить жизнь моих родителей и предков по тем данным, которые я получил со слов родителей и ближайших родственников.
Мой отец происходил из крестьян Ярославской губернии Мологского уезда Ново-Троицкой волости деревни Неумоина. Родился он в октябре месяце 1861 года и был третьим и последним ребёнком у родителей. Отца он лишился в самом раннем детстве, который умер в сравнительно молодом возрасте, не более 50-ти лет, от туберкулёза, полученного по причине тяжёлой травмы.
Небезынтересно остановиться на этом и обратиться к самому началу XIX века. В то время почти вся Ново-Троицкая волость Мологского уезда была вотчиной богатого вельможи Сухово-Кобылина. Помещик жил очень богато и даже имел собственный хор из крепостных. Каким-то путём в этот хор попала красавица цыганка, которая приглянулась пожилому барину и стала его любимой наложницей. Через некоторое время от этой связи у ней родилась дочь, которую назвали Ксенией. Эта девочка получала большую заботу со стороны своего отца и дворовых людей, оставаясь всё же крепостной. К 16-ти годам это была стройная, живая девушка, типичная цыганка, отличающаяся выдающейся красотой. Пришло время выдавать её замуж, и помещик не нашёл лучшего жениха, как своего молодого бурмистра Ивана Самойловича Колгушкина.
Я мало знаю что-либо о своём деде, но в моём воображении он представляется симпатичным блондином с небольшой, окладистой рыжеватой бородой, лет 30-35, со спокойным характером и не лишённым собственного достоинства. Обязанности бурмистра способствовали выработке тех отличий, по которым можно всегда узнать человека, поставленного руководить другими людьми.
Молодые, видимо с барской помощью, построили себе дом в центре одной деревушки, Неумоина. Этот дом, после ремонта и различных переделок, стоит и по настоящее время. Я никогда не был в Неумоине и знаю об этой деревне только лишь со слов моих родителей и детей моего двоюродного брата Ивана Николаевича Колгушкина. У молодой четы с годами появились дети: дочь Евдокия и сыновья Николай и Андрей. Как мною было сказано выше, во время женитьбы мой дед был старше своей жены Ксении Ануфриевны более чем вдвое.
В конце пятидесятых годов умер старый помещик, и во владение имением вступил его сын, приехавший из Петербурга. Вскоре он решил жениться и, одержимый барскими причудами и самодурством, приказал бурмистру Ивану Самойловичу дорогу от усадьбы до церкви на протяжении трёх вёрст засыпать сахарным песком с тем, чтобы свадебный поезд ехал на санях, несмотря на то, что была уже поздняя весна. Этот факт был описан в прессе того времени; мой дед скупил сахарный песок во всех сельских лавочках и в городах Рыбинске, Ярославле, Мологе и выполнил барскую затею. Но сахарный песок —не снег, и сани по нему ехать не могли. Жених всю неудачу свалил на бурмистра и с помощью челяди так избил моего деда, что он уже не был в состоянии поправиться. Как говорят, захирел и года через два умер от чахотки. Забота о семье и хозяйстве легла на плечи моей бабушки и подростка — старшего сына Николая. Время шло, хозяйство хирело.
После отмены крепостного права большинство мужского населения этих мест уходило на заработки в Петербург, так как полученные земельные наделы не могли прокормить всех крестьян из-за малого размера наделов. Мальчишек отвозили также в Петербург, где отдавали в ученики к ремесленникам или в "мальчики" к купцам. Девятилетнего Андрея сосед-охотник отвёз в Петербург и устроил в мальчики к купцу в галантерейный магазин у Пяти углов, здесь он и начал получать своё воспитание и образование, если не считать двух лет обучения в сельской начальной школе. Освоив специальность галантерейного приказчика, показную вежливость и нужную для этой профессии "культуру", через несколько лет мой отец был допущен до прилавка. Так началась его самостоятельная трудовая жизнь.
Приезжая в родное Неумоино, по костюму и манерам он выглядел городским и пользовался особо благосклонным вниманием деревенских красавиц. Отец был среднего роста, худощав, смугл, с густыми чёрными кудрявыми волосами, правильными чертами лица цыганского типа, отращивал небольшие усы и бакенбарды, следуя моде того времени. "Отменные" манеры столичного приказчика обольщали деревенских невест, но они его уже не прельщали.
К тому времени старший брат Николай уже женился, сестра Евдокия была взрослая и хозяйство стало укрепляться. Кроме того, мой отец оказывал семье регулярную денежную помощь. В возрасте 20 лет он решил жениться. Ему сватали много невест, но больше всего приглянулась ему Кея Васильева из деревни Зимино Мышкинского уезда. Это была шустрая шестнадцатилетняя девушка, с светло-русыми волосами, большими голубыми глазами и задорным вздёрнутым носиком.
Семья Васильевых в округе считалась довольно зажиточной. Глава семьи Денис Васильевич имел бакалейную лавочку в селе Шестихине, в одном километре от деревни Зимино, и считался купцом 3-й гильдии. Семья была большая, и Лукия, или Кея, как её звали домашние, была самой старшей.
Жених ей понравился с первого знакомства, и вскоре они были сосватаны. Молодке пришлось переехать в семью мужа, в деревню Неумоино. Из-за деспотизма и властного характера бывшей "барской барыни" — свекрови, жизнь моей матери в этой семье оказалась очень тяжёлой. Она стала уговаривать мужа отделиться. Он согласился. Пришлось построить небольшую избушку на краю Неумоина, и моя мама начала свою самостоятельную крестьянскую жизнь. Папе приходилось работать в Петербурге, но он часто навещал свою молодую жену. По словам моей матери, ей в то время, в отсутствии отца, не было большего удовольствия, как зимой запрячь свою лошадку в дровни и за 40 вёрст лесами съездить погостить к своим родителям.
Вскоре у моих родителей появился первенец, которого назвали Николаем. Недолго продолжалось материнское счастье, молодая мать сделалась невольной убийцей своего сына. Была поздняя весна. Мама сидела с маленьким Колюшкой у открытого окна. Он уже начал привставать на ножки и подпрыгивать. Маме его движения понравились, и она, держа его на подоконнике, помогала прыгать. Вверху рамы был спущенный шпингалет, о который и ударился ребёнок темечком, замертво упав в объятия матери. Неописуемое горе свалилось на голову молодой матери, но возраст, здоровье и мечта о совместной жизни с мужем в Петербурге победили всё. Горе потеряло свою остроту. Через год родилась дочь Соня, которая умерла от поноса в первое же лето, а осенью мои родители, ликвидировав деревенское хозяйство, переехали на постоянное жительство в Петербург. Где и в каких условиях они там жили, я не знаю, но они понемногу стали обзаводиться простенькой обстановкой, их первыми покупками были, так называемая, "горка" и комод. Эти вещи прошли через всю их жизнь и достались мне в наследство. Они целы у меня и по настоящее время. Мой отец на военной службе не был, отойдя по счастливому жребию.
Он никогда не пил вина, не курил и не играл в карты, но любил посещать общественные места, как-то: театры, общественные клубы, благотворительные вечера. Мама занималась домашним хозяйством и училась на поварских курсах, которые успешно закончила, получив соответствующее свидетельство с золотым государственным гербом. В будущей жизни эти знания поварского искусства ей очень пригодились. Надо сказать, что мама была грамотнее отца, так как окончила церковно-приходскую школу.
В самом конце 1887 года родилась моя сестра Женя.
Отец к тому времени, поднакопив некоторое количество денег, сделал взнос в кассу, так называемой, Владимирской биржевой артели, которая выполняла функции посредника между хозяевами предприятий и лицами, желающими получить работу. Артель со своей рекомендацией направляла на предприятия своих членов преимущественно на руководящие должности, неся за них полную материальную ответственность. Мой отец дал согласие работать в известном пивоваренном предприятии "Дурдины и К°" в г. Ярославле. Ему предоставили должность управляющего пивным складом в Костроме. В 1888 году он, вначале один, впервые поехал в Кострому. В то время железная дорога на Кострому ещё только строилась, и он ехал от Ярославля на почтовых лошадях.
За год до его приезда Кострому постигло большое стихийное бедствие. Произошёл огромный пожар, уничтоживший почти всю западную часть города. В то время в этой части преобладали деревянные постройки частных домовладельцев. Бушевавший трое суток огонь уничтожил несколько сотен домов. Огонь остановился на Власьевской (ул. Симановского) около Богоявленского женского монастыря. К приезду отца эта часть города отстраивалась вновь.
Моему отцу было предложено Дурдиным открыть в городе несколько пивных лавок и склад с разливом пива "Новая Бавария". Дом и надворные каменные постройки были предоставлены на Богоявленской улице (начало ул. Симановского), как раз против больших Третьяковских домов. Эта часть улицы от пожара не пострадала. Сделав всё необходимое и начав организацию предприятия, отец перевёз в Кострому свою небольшую семью.
По словам моих родителей, этот период их жизни был самым счастливым и вполне благополучным с материальной стороны. Квартира была очень большая, во втором этаже, а внизу находилась пивная; жили они очень хорошо, имели большой круг знакомых, приобрели приличную обстановку, хорошо одевались и даже имели собственные выезды. У отца был рысак, а у мамы пара буланых пони, по кличкам Ёрш и Кролик.
По отзывам старожилов, мой отец производил большое обаяние и женщины им увлекались. Он слыл "костромским львом". Любил влюблять в себя женщин, чем сильно омрачал маму и вызывал её ревность, что даже отразилось на состоянии её сердца и нервной системы в целом. За эти годы у них родились одна за другой две девочки-погодки — Клавдия и Тамара, но они умерли в возрасте до пяти лет и были похоронены на Лазаревском кладбище в конце Русиной улицы.
Родители начинали подумывать о постройке в Костроме двухэтажного дома, который мог бы обеспечить безбедное существование под старость и дать возможность должным образом воспитать детей. Для этой цели они уже тогда начали откладывать свободные деньги на сберкнижку или обращали их в ценные бумаги (облигации). Мама работала за стойкой пивной, что давало ещё дополнительный заработок.
Приехавший в Кострому сам Дурдин, после ознакомления с предприятиями, остался доволен широким размахом и предложил отцу переехать в Ярославль для организации и там такого же дела. Очень неохотно мои родители через семь-восемь лет покинули полюбившуюся им Кострому, расстались со своими друзьями и знакомыми, но не теряли надежды на возвращение, что им и удалось осуществить через 2-3 года.
(…)
А что произошло за эти годы в Неумоине? Моя бабушка Ксения Ануфриевна умерла в довольно пожилом возрасте в конце восьмидесятых годов. Дядя Николай до смерти прожил в деревне. Его сын Иван Николаевич на военной службе получил специальность фельдшера и покинул родную деревню. Тётя Евдокия, при содействии своего брата, в возрасте 40 лет вышла замуж за очень делового человека Андрея Фёдоровича Шведова, который был моложе её на 15 лет. Жили они очень дружно, из галантерейных приказчиков он сделался хозяином собственного мануфактурно-галантерейного магазина в центре Петербурга. Впоследствии они имели двоих детей, ровесников мне — сына Фёдора и дочь Августу.
Я хочу показать идеальный пример дружбы в течение всей жизни между моими родителями и семьей Василевских. В этой дружбе ни с той, ни с другой стороны не преследовалось никаких низменных интересов, а основана она была на взаимном уважении, искренней любви и доброжелательстве. Мы часто бывали друг у друга, хотя они жили далеко, в конце Ново-Троицкой улицы д. № 43, но для всех нас этот дом был как родной, так же, как для них наш. Редкий день проходил, чтобы мама с базара не зашла к Василевским, а Екатерина Михайловна к нам. Она была немного моложе мамы, но совершенно противоположной по наружности и темпераменту.
Если в те годы мама была очень полной при небольшом росте, с бледноватым, холеным лицом, несколько подвижным, то Екатерина Михайловна была женщиной выше среднего роста, очень смуглой, черноволосой и худощавой. Своими манерами, а главное, красиво картавящим голосом очень напоминала еврейку, хотя происходила из духовного звания. Её дед был священник Судьбинин, а отец — исправник.
Она курила и, при случае, не отказывалась выпить водочки, попеть и потанцевать, что они с мамой изредка и проделывали, иногда даже только вдвоем. Полную противоположность ей представлял ее муж Николай Антонович. Это был очень высокий, полный мужчина, лет пятидесяти с небольшим. Его розовое, симпатичное лицо, с правильными чертами, украшала седая борода, по-скобелевски расчесанная на две стороны. На глазах всегда были одеты синие очки в старинной серебряной оправе — он был абсолютно слепой. Носил военную форму с погонами пехотного капитана в отставке. Вина он не пил и не курил, но очень любил хорошо покушать, поиграть на рояле и попеть, а также поухаживать за хорошенькими, молодыми дамочками, чем вызывал постоянную ревность Екатерины Михайловны. Он мало ходил по городу, так как проходящие военные отдавали ему честь, а он не видел — Екатерине Михайловне каждый раз приходилось отвечать на приветствия кивком головы.
Одевалась Екатерина Михайловна весьма оригинально. Редко надевала зимой ротонду или ватное пальто, а любила жакеты темного цвета, такую же широкую и очень длинную юбку, с всегда потрепанным подолом. Шляпку носила маленькую, старомодную, сдвинув ее на самый лоб. Никогда ни в чем моды не придерживалась. Иногда спускала вуалетку.
У них было шесть человек детей, два сына и четыре дочери в возрасте от 20 до 2-х лет. Старшие дочери — Тамара, Клеопатра и Лидия — в то время воспитывались в городе Тамбове в Елизаветинском институте благородных девиц на полном государственном обеспечении, а сын Борис учился в Ярославском кадетском корпусе. Дома при родителях были только двое — сын Вячеслав, ровесник Володи, и дочь Ариадна, ровесница Лизы. Старшие дети приезжали домой только на каникулы и летом.
Василевские жили на пенсию в размере 100 рублей в месяц и имели собственный маленький, полукаменный дом. Они жили во втором этаже, а низ сдавали квартиросъемщикам — рабочим.
Большой загадкой была причина слепоты Николая Антоновича. Молодым офицером он принимал участие в Русско-турецкой войне 1877-78 годов. Был под Плевной и на Шипке. Знал лично генералов Гурко и Скобелева. Потом служил в Костроме, в запасном батальоне. Однажды поздней осенью по какому-то случаю ожидали приезда в Кострому императора Александра III. Все были начеку. Николай Антонович в тот день был начальником караула на городской гауптвахте. Кто-то "сбил тревогу". Он поспешно выскочил из помещения на площадку, поскользнулся на приступках и упал затылком на каменный пол, лишившись сознания. Его отправили в больницу. Придя в сознание, он понял, что ослеп. Его долго лечили, но безрезультатно. Пришлось выйти в отставку. Поскольку инвалидность получена благодаря травме при исполнении служебных обязанностей, ему была назначена пожизненно пенсия в размере полного жалования, а воспитание и обучение детей "Высочайшим повелением" было полностью принято за счет государства. До болезни Николай Антонович был кутила, картежник и ловелас, а потому ходили слухи, что на гауптвахте он был мертвецки пьян, почему и упал. Характерно, что, выйдя в отставку, он дал себе обещание не пить ничего спиртного и не держать его в своём доме, не курить и не играть в карты. Это обещание он сдержал до самой своей смерти.
Я подробно описываю эту семью потому, что она оказала большое влияние на формирование моего характера и многих наклонностей. Жизнь Василевских прошла на моих глазах до самого распада этой большой семьи, о чем я скажу ниже. О близости наших взаимоотношений говорит один эпизод со Славой Василевским. Ему было не более 5 лет, когда он решил самостоятельно придти к нам на Ивановскую. Плутая по городу, он заблудился, стал плакать, собрал вокруг себя прохожих, которые спрашивали его имя, фамилию и адрес. Он назвался Володей Колгушкиным и указал адрес на Ивановской улице. Проезжающий мимо крестьянин с картофелем посадил его на воз и доставил к нам, говоря: "Я нашёл вашего сына и привез". Все смеялись, но за доставку все же пришлось уплатить 15 копеек. Тогда Слава прожил у нас более недели, не желая идти домой, хотя за ним приходили ежедневно. Так крепка была наша дружба.
Прошло более 40 лет с тех пор, когда я был последний раз в доме Василевских, но этот дом, как живой, стоит в моей памяти. Даже иногда со всеми подробностями я вижу его во сне. Хорошо помню все четыре комнаты скромно меблированной квартиры, но особенно ясно я представляю комнату Николая Антоновича и Екатерины Михайловны. В этой комнате было всего одно небольшое окно, да и то затененное каменным брандмауэром, поставленным у соседнего дома Кошелевых, так что в комнате всегда был полумрак. Самое интересное в ней было то, что на стене у кровати Николая Антоновича висел большой темный ковер, на котором художественно было развешено оружие и доспехи времен Русско-турецкой войны. Тут были тяжелая винтовка системы Бердана, офицерская сабля, две шашки, пистолеты "Смит и Вессон", какого-то странного образца, турецкие, фляжка, кинжалы, и даже походная офицерская фуражка с красным околышем и белым верхом, и старый стеклянный фонарь с огарком свечи. Этот стенд приводил в восторг каждого подростка, а я даже завидовал Николаю Антоновичу, что он был на войне. В столовой висела большая картина, на которой было изображено крушение царского поезда у станции Горки. В гостиной, или зале, как они называли эту комнату, стоял большой рояль, венские стулья и такие же два дивана.
Во дворе, среди фруктового сада, как раз против заднего крыльца дома, была красивая, длинная, с резными украшениями беседка, открытая только с лицевой стороны. Летом она вся была обвита диким виноградом и плющом. В хорошую погоду в ней мы всегда пили чай с разнообразным вареньем и с неизменной ореховой халвой в металлической коробке. От беседки вглубь двора шла густая барбарисовая аллея к старой баньке, в которой постоянно играли.
Как все это было давно, а кажется — и недавно, а ведь почти никого уже нет в живых из тех, кто тогда окружал нас. То же самое и с домом на Ивановской улице, где из всех живших в то время людей остался один я. Но вернусь к своему рассказу.
Наступившая осень 1903 года внесла новое в нашу жизнь. От нас ушла няня Пелагея, которая, с полного согласия мамы, перешла к Василевским, а нам они порекомендовали молоденькую девушку Лизу, костромичку, дочь рабочего катушечного завода купца Пряничникова. Эту девушку мы все очень полюбили. Она была грамотная и много читала нам сказок из детских книжек, хорошо умела рассказывать сказки и знала много всяких случаев и происшествий из жизни нашего города. Мать у ней умерла, а отец все время был на работе. Маленькие брат и сестра жили у тети. Она часто ходила с мамой на базар и всегда просила её купить побольше детских книжек и картин.
Мне хорошо помнится, как она однажды принесла две большие лубочные, ярко раскрашенные картины на прочной бумаге. На одной из них был нарисован эпизод о том, как мыши кота хоронили, а внизу полностью была напечатана эта сказка. На другой нарисована тройка лошадей, в экипаже сидел молодой офицер, а сзади на дороге у огорода красивая девушка. Внизу было стихотворение Н.А. Некрасова "Что ты жадно глядишь на дорогу…". Мы повесили эти картины на стену у своих кроватей и каждый день просили няню Лизу читать нам этот текст, который через несколько дней запомнили дословно.
Быстро наступали тёмные осенние вечера; излюбленным нашим местом в эти и в зимние вечера становилась большая русская печка, верхняя площадка которой была не менее четырех метров, куда мы залезали по лесенке. Там устанавливали керосиновую лампу и детские скамеечки, играли в карты в "подкидного" или "круглого дурака", в "акульку", в "пьяницы" и проч. Мама, няня Лиза, а иногда и Женя рассказывали нам разные забавные истории и происшествия, а также и сказки. Первой тут же на печке засыпала маленькая Лиза, а потом очередь доходила до нас. Полусонные, капризничая, мы слезали с печи, чтобы умыться, выпить молока и ложиться спать в постели. Бывали случаи, когда зимой, в большие морозы, на этой печке мы обедали и пили чай. Иногда вечером приходил к нам отец Лизы, который всегда пил с нами чай и рассказывал очень много всего, чего мы совершенно не знали. Женя обычно после прихода из гимназии готовила уроки или уходила к подругам. Иногда и подруги приходили к ней.
Папа же с осени уехал в Петербург. Мне тогда было очень лестно, что его всегда письменно приглашали в клинику. Я этим очень гордился и хвастал соседним ребятам, не понимая того, что в клинике его не столько лечили, сколько использовали как объект для демонстрации редкого и типичного заболевания tabes dorsalus перед студентами медицинского факультета и военно-медицинской академии. Я это понял много позднее, когда, обучаясь в вузе, лично познакомился с клиниками.
Отец няни Лизы (я не запомнил его имени и фамилии) говорил, что начинаются волнения среди рабочих текстильных фабрик, что туда приходят какие-то молодые люди, разбрасывают прокламации и собирают рабочих для бесед. В это время я слышал много новых слов, как: революция, самодержавие, агитаторы, провокаторы, митинги, сходки и прочие. Значение их понимал плохо. Мне было совершенно непонятно, для чего учащиеся устраивают "беспорядки" и "волнения", зачем рабочие "бастуют" и почему к ним идут учащиеся. Такие же новые для меня слова я улавливал в тихих разговорах Жени с подругами.
Мне почему-то больше всего нравилось слово "прокламация". Я представлял её в виде красивой, большой картины и очень просил Женю, чтобы она где-нибудь достала её и показала мне. Я завидовал полицейским и стражникам, тому, что они отбирали эти картины у рабочих, и думал, что у них этих прокламаций очень много и они развешивают их у себя в комнатах. Мы даже ссорились с Володей из-за того, что он собирался все подаренные мне прокламации у меня отобрать. Мне еще хотелось достать где-нибудь "пароль", с которым рабочие ходили на тайные собрания. Я представлял пароль как что-то вещественное, вроде красивой деревянной игрушки.
Вот таково было мое первое впечатление от грядущей революции 1905 года.
В эти же дни я впервые увидел появившихся в Костроме казаков. Мне очень нравились их красные лампасы, шашки и нагайки, которые они все держали в правых руках. Казачьи офицеры в серебряных погонах и в галунах лихо скакали по улицам города. Зачем они в Костроме, я не понимал.
Губернатор Князев стал разъезжать в карете, запряженной парой вороных рысаков и в сопровождении "почетного" эскорта четырех конных черкесов, а раньше он всегда свободно и просто прогуливался по городу пешком. На парадном крыльце губернаторского дома, кроме постоянного швейцара в ливрее, появился караул из двух вооруженных черкесов. Не мудрено, что я в то время знал этого губернатора, как и всех последующих, так как, живя неподалеку, я ежедневно видел их на прогулке по Муравьевке и Борисоглебскому переулку (ул. Крестьянская), а также часто за богослужением в церкви.
Родители выписывали местную газету, выходящую в то время под разными заголовками, а также "Русское слово" и журнал "Ниву". Мама и няня Лиза читали их, и мы были в курсе текущих событий.
По всему чувствовалось приближение каких-то тревожных событий. Поговаривали о рабочих "беспорядках" в Петербурге, Москве и других промышленных центрах. Более дальновидные политики ожидали войны.
(…)
В январе месяце 1904 года все узнали о начале Русско-японской войны. Легендарный крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" совершили свой бессмертный подвиг, начались ожесточенные бои в Маньчжурии и в Порт-Артуре. Все восхищались героизмом моряков "Варяга" под командованием капитана I ранга Руднева.
В Костроме ежедневно выпускались бюллетени о ходе военных действий на Дальнем Востоке. Этими же сведениями были полны и все газеты. В жизни же города особенно резких изменений не было, за исключением того, что на улицах увеличилось количество солдат из запасных бородатых мужичков, которым предстоял далекий путь на восток; чаще гарцевали по улицам разъезды казаков и стражников, да по церквам совершались молебствия о даровании победы "христолюбивому воинству".
В нашей жизни также ничего не изменилось. Мы слушали сообщения и рассказы мамы, Жени и няни Лизы о японцах и событиях на фронтах. Иногда они вслух читали газеты и бюллетени, из них мы кое-что усваивали. Наши игры на улице были исключительно в войну. Мы собирали с соседних дворов сверстников и превращались одни — в русских солдат, другие — в японских. Когда был снег, то строили крепость и кидались снежками, а летом крепости делали из пустых ящиков и в ход пускали мелкие камни. В одном из таких "боев" я чуть не лишился глаза, за что от мамы, конечно, досталось всему воинству, а "раненому" даже вдвое. Много новостей приносила Екатерина Михайловна. Николай Антонович не верил в победу русского оружия и осуждал правительство за неподготовку к войне. Рабочим волнениям он явно не сочувствовал. Он был доволен существующим строем, так как от него зависело всё их благополучие.
Шли слухи о военной измене и предательстве со стороны высшего командования в лице генерала Стесселя, о бездарности генерала Куропаткина и адмирала Рожественского. Появились анекдоты о разгульной жизни офицерства на Дальнем Востоке, о том, что вместо снарядов и винтовок на фронт шлют целые вагоны различных иконок для солдат. Быстро падал искусственно созданный патриотизм, и мало кто ещё верил в победу.
У нас на стенах появились ещё несколько картин батального содержания. На одной их них была изображена гибель "Варяга" и "Корейца", где наши корабли отстреливались от окруживших их неприятельских кораблей, многие из которых были подбиты и тонули. На переднем плане другой картины на большой белой лошади с обнаженной саблей скачет бравый генерал Куропаткин, а за ним наши кавалеристы; впереди и под ногами коня изображены маленькие, как тараканы, японцы в синих мундирах, с желтой окантовкой, с белыми гетрами на ногах, с желтыми косоглазыми лицами, в синих фуражках с желтыми околышами. Много японских солдат побито, а живые спешат убежать от наступающих русских. А так ли было в действительности?
Эпизоды наших побед были на обложках шоколадных плиток, на папиросных коробках и даже на деревянных шкатулках с чаем "Караван". В журналах "Нива" и "Родина" появились портреты отличившихся на войне генералов и старших офицеров, но не было ни одного солдата и о подвигах их не писалось. "Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает…" и т.д. В скором времени все люди, от детей до стариков, начали распевать, популярную и в настоящее время, песню о гибели "Варяга". Из наших родных и знакомых никто не был мобилизован на японскую войну и на Дальний Восток не попал.
В этот год наступил срок для моего обучения и подготовки к гимназии. Маме не хотелось отдавать нас в общую начальную школу, и ей кто-то порекомендовал домашнюю учительницу Дернову Анну Афиногеновну, проживавшую в доме протоиерея Андроникова в Борисоглебском переулке, которая содержала такую школу для подготовки детей к поступлению в гимназию. Это была маленькая, худощавая старушка, совершенно одинокая. Вероятно, она была уже на пенсии и, имея свободное время, заполняла его своей любимой работой.
Договорившись с Анной Афиногеновной, мама купила мне букварь, грифельную доску, карандаш, резинку, ручку и деревянный пенал, а также простенький ранец. Я стал учеником, к зависти брата Володи, которому учиться было рано. В сопровождении мамы я робко переступил порог комнаты моей первой учительницы. Одновременно учились у ней 6-8 мальчиков. Я был большой тихоня, даже стеснялся громко отвечать на вопросы учительницы. Появилась ещё одна черта — я, при обращении ко мне посторонних людей, беспричинно краснел и, отвечая, слегка заикался. Занимались мы не более трех часов в день и, получив домашнее задание, расходились по домам. В этой школе я подружился с двумя братьями-близнецами Кравковыми, Борисом и Глебом, и мы даже стали после уроков ходить друг к другу. Кравковы жили в своем доме на углу Покровской и Жоховской (Энгельса и Войкова) улиц. С ними я должен был через полтора года поступать в приготовительный класс гимназии. Начиная учиться у Анны Афиногеновны, я уже знал все молитвы, которые требовались по программе, знал некоторые буквы, но читать и писать ещё не умел. Плохо понимал арифметику, и она уже в те годы мне не нравилась.

Муравьёвский спуск в нач. XX в.
После занятий в школе у меня было много свободного времени, которое мы с братом и соседями-сверстниками проводили на воздухе, играя во дворе, а чаще всего — на Муравьёвке. В то время Муравьёвка была совсем не такая, как в настоящее время. Во-первых, аллея была в два раза уже, во-вторых, Муравьевка на углу Гимназического переулка (ул. Лермонтова) наискось рассекалась проездом к Нижней Дебре, делясь на "большую" и "маленькую". К проезду с той и другой спускались лестницы. На большой Муравьевке выдавались вперед к Волге три больших площадки, которые назывались бастионами. На них, на деревянных бревенчатых стойках, стояли пушки времен Бориса Годунова. Всего их там было не менее двадцати. Мы всегда играли на этих бастионах и, сидя верхом на пушках, воображали себя всадниками.
На маленькой Муравьевке, по инициативе губернатора Леонтьева, в конце XIX века была открыта детская площадка с игротекой, где всем детям, приходящим туда со взрослыми, совершенно бесплатно давали поиграть всевозможные игрушки: мячи, кегли, крокеты, деревянные обручи для катания, кубики, деревянные чашечки для песка и даже детские велосипеды и деревянных красивых коней. Туда мы ходили только с мамой или няней, а на большую Муравьевку бегали самостоятельно. Как весело и привольно было организовывать подвижные игры на зеленых нижних площадках, кувыркаться по горам и прятаться от солнца под густыми кронами тополей.
Меня же туда привлекало еще то, что тут на горке, по линии церкви, жила моя сверстница Катя Скороходова, мать которой, тетя Шура, носила нам молоко. У них был свой маленький домик, стоящий на склоне глубокого оврага. Её отец служил в церкви псаломщиком. Катя была очень бойкая, смуглая, румяная девочка с очень миловидным личиком. Она мне очень нравилась, и я мечтал, что, когда вырасту большой, обязательно женюсь на ней.
Вот эту-то девочку весной 1904 года постигло большое несчастье. В пасхальные дни её отец, подгуляв с гостями, расхвастался своей силой и поспорил, что подымет на плечо любую пушку. Они пошли на Муравьевку. С большим трудом он пушку поднял и тут же упал, надорвавшись. Пролежав без движения около двух месяцев, он в возрасте не более 28 лет умер. Вот до какой нелепости может довести человека излишне выпитое вино, а, в связи с этим, ненужное хвастовство.
Катя с матерью остались без всяких средств к существованию, но, благодаря трудолюбию, эта женщина-мать своим поденным трудом и продажей молока содержала себя и свою дочь. Мы продолжали дружить, но года через два дружба наша начала идти на убыль, и мы постепенно забывали друг друга. Через 15 лет, когда Катя выучилась на врача, вышла замуж и превратилась в Екатерину Николаевну Готовцеву, мы уже не узнавали друг друга.
(…)
В октябре месяце папу опять вызвали в клинику, и мы снова вспомнили о нашей любимой печке, которую по вечерам стали навещать все чаще и чаще.
Женя в августе месяце получила назначение в город Кинешму и вскоре уехала туда. Через некоторое время она прислала письмо, в котором писала, что работает в церковно-приходской школе, а квартиру нашла на Песочной (Красноармейской) улице у сапожника Соколовского.
Неожиданно нас постигло несчастье — в один день мы все трое внезапно тяжело заболели. Приехавший знакомый старик-фельдшер Рубин Геннадий Давыдович сказал, что у нас скарлатина. Тотчас же мама пригласила известного в то время доктора медицины Зеленского, который диагноз подтвердил. По положению, нас должны были изолировать в инфекционное отделение больницы. Мама воспротивилась. Приходили из санинспекции и даже из полиции, но мама не сдалась. У нас сделали дезинфекцию и на квартиру наложили карантин на 45 дней. Общение мамы с людьми было запрещено. Везде ходила только няня Лиза, которой было запрещено входить в нашу комнату.
Лечил нас Геннадий Давыдович исключительно спиртовыми компрессами на горло и всякими смазываниями глотки. Температура быстро спала, и мы чувствовали себя отлично, за исключением того, что шеи наши были сплошными болячками.
Болезнь у всех прошла без осложнений, и я возобновил посещение уроков у Анны Афиногеновны. В этот год со мной пошёл туда и Володя.
(…)
Наступила суровая зима. Мы все время гуляли, не боясь стужи. Однажды мне захотелось над кем-нибудь подшутить. Я начал подзадоривать ребят, говоря, что никому не лизнуть железную петлю у ворот. Никто не решался. Я предложил Лизе, как самой маленькой. Она лизнула и повисла на петле — язык примерз. Я не растерялся и быстро его оторвал. Конечно, было много крови и слёз. Кожа от языка осталась на петле до самой весны. Лиза долго не могла говорить и плохо кушала. Впоследствии говорили, что её небольшая шепелявость получилась благодаря этому случаю. Я уже в то время этому не верил. Следующее лето мы никуда не ездили, ходили к Василевским, а они к нам. Гуляли всей компанией за Волгой, на набережной, ходили на Лазаревское кладбище.
В этот год контракт с епархиальным советом кончился, дом был освобожден и родители приступили к его штукатурке и отделке внутри. К осени мы собирались опять переехать в прежнюю большую квартиру, что потом и осуществили.
Вести с Дальнего Востока были весьма неутешительные. Наши войска терпели поражение за поражением в Маньчжурии. В марте 1904 года на крейсере "Петропавловск" погибли известный адмирал С.О. Макаров и художник-баталист Верещагин. Порт-Артур был осаждён, и как-то зашедший к нам Г.Д. Рубин с еврейским акцентом сказал: "Мы отдали Потатур", это была правда. Порт-Артур пал.
Вся страна была охвачена забастовками, вооруженными восстаниями, еврейскими погромами. Революция достигла своего апогея после 9 января 1905 года. Волнения перекинулись в деревню. Крестьяне жгли помещичьи усадьбы, самовольно захватывали дворянские земли. Войска не оставались безучастны. Там также вспыхивали бунты. Восстал броненосец "Потемкин", некоторые корабли поддерживали его. А на Дальнем Востоке все гибли и гибли русские солдаты. Либеральная буржуазия ждала каких-то уступок и милостей от царского самодержавия. Надеялись на Государственную думу, как народное представительство.
Вот, наконец, 17 октября был издан царский манифест, который фактически ничего не давал народу, а был лишь очередным маневром для дальнейших репрессий. Тогда в народе ходил каламбур: "Царь издал манифест: мертвым свобода, живых под арест".
(…)
Самое большое выступление рабочих и учащейся молодежи в Костроме произошло 19 октября 1905 года, в связи с опубликованием царского манифеста. Костромской комитет РСДРП организовал митинг около памятника Сусанину. Собралось несколько сот учащихся и рабочих. Выступали ораторы. В это время черносотенная организация "Союз русского народа" собрала мелких торговцев, приказчиков, кустарей, ломовых извозчиков и зимогоров с Молочной горы, которых натравила на участников митинга. С криками: "Бей крамольников", они оглоблями, палками, камнями и ножами начали разгонять и избивать митингующих. Было покалечено свыше ста человек, из которых некоторые умерли от побоев в последующие дни, а семинарист В.А. Хотеновский был убит на месте.
Особенно зверствовал с компанией молодчиков приказчик мучного торговца Лёзова Михаил К…в, который, преследуя учащихся, добежал до дома Каменских на Царёвской улице, куда спрятались несколько гимназисток, ворвался в дом и начал поголовно избивать всех. Бил железной лопатой и пытался протолкнуть свои жертвы в очко холодной уборной. Тут оказались подруги Жени — Беркина, Бекаревич, Мовцович — и другие восьмиклассницы Григоровской гимназии. Шрам от лопаты на щеке Беркиной остался на всю жизнь.
В тот день ожидали еврейского погрома, а потому евреи свои магазины с утра вовсе не открывали, а прочие магазины были закрыты в начале митинга.
Мы с товарищами, услышав о происходящем на Сусанинской площади, пытались туда пробежать, но путь нам преградил городовой, пришлось вернуться домой. Няня Лиза ходила на базар и принесла самые свежие новости, так что к вечеру в тот же день мы знали все подробности.
(…)
Минули годы счастливого, беззаботного, дошкольного детства. Пришла пора начинать систематическое образование. Родители имели твердое намерение всем детям дать гимназическое образование. Нам же, мальчикам, хотелось только поскорее щегольнуть перед товарищами и взрослыми гимназической формой. Трудностей обучения в классической гимназии мы себе не представляли и над этим вопросом вовсе не задумывались.
К тому времени мой характер складывался не в мою пользу. Моя скромность, флегматичность, а главное, болезненная застенчивость даже пугали моих родителей. Они очень боялись того, смогу ли я влиться в шумный гимназический коллектив. Эти черты характера складывались у меня, безусловно, на почве врожденной мягкости темперамента и постоянного пребывания в окружении только своей семьи, состоящей в основном из лиц женского пола. Меня как-то не особенно увлекали шумные игры своих сверстников, и я находил большее удовольствие играть один.
Совершенно противоположным складывался характер Володи, которого постоянно тянуло в окружение мальчиков, над которыми он любил всегда брать верх и командовать ими, а на женщин и девочек смотрел "свысока", предъявляя к взрослым требования безусловного выполнения всех своих прихотей. Над девочками же любил зло подшутить и чем-нибудь их обидеть, и довести до слёз. Эти развивающиеся отрицательные черты характера родителями слабо подавлялись, и в результате они стали принимать эгоистические оттенки. Ему часто многое прощалось, за что мне всегда попадало. В характере Володи мама видела повторение отца, а потому любила его больше, чем меня. Я же повторял черты её характера, а это нравилось папе. Володя жил эмоциями, а я больше рассудком. Эти развивающиеся черты характерно отразились на всей последующей нашей жизни.

Летом 1906 года мама подала прошение на имя директора гимназии о зачислении меня в приготовительный класс. Экзамены были назначены в первых числах августа месяца. К этому торжественному дню мне был сшит новый костюм из серого гимназического сукна, но с нарушением форменного покроя. Вместо тужурки была курточка с резинкой снизу, а вместо длинных брюк были широкие штанишки до колен, и тоже на резинке.
Робко, в сопровождении мамы, я впервые переступил порог своей "alma mater", где мне суждено было провести одиннадцать лет. Через парадный вход мы прошли во второй этаж и в коридоре стали ожидать начала экзамена, который должен был проходить в помещении приготовительного класса. Мы стояли в коридоре вместе с другими новичками и их родителями, которые знакомились между собой и обменивались замечаниями, а также обрисовывали качества и способности своих будущих гимназистов. Мимо нас проходили важные учителя в форменных сюртуках с портфелями и папками, пробегали шумные гимназисты, которым в этот день предстояло держать вступительные экзамены в старшие классы или переэкзаменовки.
Я стоял у окна и с любопытством смотрел на всё происходящее вокруг меня. Мимо проходил великовозрастный гимназист с курносым, белобрысым, тупым лицом. Сравнявшись со мной, он смачно сплюнул в лестничный пролёт и, сунув руки в карманы брюк и расставив широко ноги, нагло спросил меня: "Ты зачем сюда пришел?" Я ответил: "Поступать в гимназию". Он слегла ударил меня по щеке. Я не заплакал, но сильно покраснел. Это увидела мама и начала ругать гимназиста. В тот самый момент из класса вышел пожилой толстенький учитель, лысый, с седой бородкой клином. Это был классный наставник приготовительного класса Петр Никитич Виноградов, который привел к порядку обидевшего меня гимназиста, сказав, что это второгодник Алякритский Геннадий, который будет им наказан. С Алякритским пришлось мне учиться впоследствии ещё несколько лет.
Нас, экзаменующихся, ввели в класс и посадили на парты перед большим столом, накрытым зелёным сукном. За столом стояла разлинованная классная доска. Председателем экзаменационной комиссии был, как я позднее узнал, инспектор гимназии Андрей Николаевич Орлов, очень полный черноволосый мужчина, средних лет, и членами — священник о. Аполлос Благовещенский и П.Н. Виноградов.
К столу нас вызывали по трое. Священник заставил меня прочитать молитву "Отче наш" и ещё спросил, часто ли я хожу в церковь. Андрей Николаевич задал несколько вопросов по таблице умножения и дал несколько предложений на сложение и вычитание. Пётр Никитич заставил написать мелом на доске четыре-пять слов. Стесняясь и краснея, экзамен я выдержал. Я упросил маму идти на базар, даже не заходя дамой. Долго примеряя, я выбрал в шапочном магазине Синицына форменную синюю, с белыми кантами и большим серебряным значком фуражку и тут же надел на голову. На обратном пути мы зашли в писчебумажный магазин "Костромич", где купили необходимые учебники и канцелярские принадлежности. Ранец с тюленьей крышкой был куплен мне ранее. Дома перед друзьями у меня было много разговоров о гимназии, об экзаменах, а, в конце концов, весь разговор я сводил на новую фуражку, которую давал всем примеривать.
Новый учебный год в то время начинался с 16-го августа. Я опять в сопровождении мамы во всеоружии пошёл в гимназию. Меня там сразу ошеломил шум, крик и беготня нескольких сотен гимназистов всех возрастов. Мы шли уже через двор, так как ученикам через парадный вход проходить было воспрещено. В саду и на игровой площадке гимназисты играли в лапту, городки, футбол. Маленькие бегали по тенистым аллеям парка. За порядком следили классные надзиратели. Мы прошли в тот же коридор, где были во время экзамена. Вскоре всех новичков Пётр Николаевич взял в класс и рассадил за парты. Я попал на парту во втором ряду сбоку, к окнам на Муравьёвку.
Со мной был посажен Ваня Смирнов. Всего в классе оказалось сорок три ученика, из которых были два второгодника — Геннадий Алякритский и Владимир Сальков. Они были выше каждого из нас больше чем на голову и старше на два, три года. С первых дней они пытались взять класс в свои руки, но среди приготовишек оказались такие серьезные мальчики, которые сумели дать им достойный отпор.
Русский язык, чистописание, рисование и арифметику вел у нас Пётр Никитич, закон Божий и древнеславянский — отец Апполос, и пение — классный надзиратель Борис Владимирович Пиллер. Вот я и стал почти настоящим гимназистом, хотя в приготовительном классе разрешалось не придерживаться полной формы. Разрешалось носить штатские пальто, короткие штанишки и даже валяные сапоги.
В нашей семейной жизни к тому времени также произошли некоторые изменения. Прежде всего, мы снова переехали во вновь отделанную квартиру, в которой жили первый год. Няня Лиза по семейным обстоятельствам от нас ушла, и на её место мама взяла Машу Бабутину, девушку лет семнадцати. Это была высокая, неуклюжая и некрасивая деревенская девица, совершенно неграмотная, но очень сильная и трудолюбивая.
Бабутины были нам знакомы давно. Тетя Матрена, мать Маши, носила нам молоко от своей коровы и другие продукты сельского хозяйства и была очень дружна с мамой. Каждый раз они подолгу вдвоем попивали чаёк, а иногда баловались и винцом. Это была маленькая, юркая женщина, ровесница маме, веселая; подвыпив, любила попеть и поплясать. Она уже несколько лет вдовела. Её муж Яков Иванович, съезжая в Татарской слободе с горы, упал с воза сена между телегой и лошадью и переломил себе позвоночник. Всю семью поднимала тётя Матрена со своим старшим сыном Иваном и снохой Евлампией. Второй сын, Николай, работал в Костроме приказчиком у известного рыботорговца и коннозаводчика Василья Николаевича Скалозубова, который очень хорошо относился к Бабутиным, много помогал деньгами и продуктами, а когда у них пала лошадь, он им дал безвозмездно хорошую лошадку Юзву. Года через два Николая взяли на военную службу, в Балтийский флот, и он уехал в Кронштадт. В семье тёти Матрены оставалась еще девочка Феня, лет 10-11, и сын, тоже Николай, пяти лет. Жили они в деревне Подольце Минской или Пушкинской волости. Жили бедно, и мама помогала им, чем могла. Я более подробно останавливаюсь на описании жизни этой семьи потому, что их жизнь прошла параллельно с жизнью нашей семьи, при взаимной помощи с обеих сторон. В этом же году возвратился в Кострому мой двоюродный брат Иван Николаевич Колгушкин с семьей. Он был медицинским фельдшером, свое дело знал очень хорошо, но из-за злоупотребления алкоголем на работе подолгу не удерживался. На этот раз он собирался обосноваться здесь на постоянное жительство.
Это был человек средних лет и среднего роста, со светло-рыжими волосами, с красноватым, некрасивым, но довольно привлекательным лицом, добродушный шутник и любитель анекдотов. Он был женат на очень скромной и безобидной женщине Наталье Васильевне Красовской, дочери мелкого почтового чиновника.
В то время у них были две дочери: Катя, лет трех, и новорожденная Нюра. Материально жили они плохо, но ни тот, ни другой на свою жизнь не жаловались, не унывали и никогда не говорили о своей нужде. Мои родители их очень любили. Когда приходил Иван Николаевич, то на столе всегда появлялись разделанная селедочка, копченая колбаска и графинчик с водкой, подкрашенной рижским бальзамом. Иван Николаевич вынимал кожаный портсигар, наполненный папиросами собственной набивки, угощал маму, говоря: "Попробуйте наших, медицинских", а потом, выпив и закусив, с большим юмором передавал всевозможные городские новости, что он делал просто артистически. Часто они приходили к нам всей семьей. Наталья Васильевна всегда была добродушно настроена, мужа за его выпивки никогда не журила и все его похождения всегда скрывала от окружающих. Она очень оригинально смеялась, всегда сильно щуря глаза.
Увлекшись описанием своей домашней жизни в окружении родных и близких знакомых, я отступил от основной темы о первых шагах своей гимназической жизни. Продолжаю.
Первый же день моего учения омрачился для меня неприятностью. Гимназистам младших классов разрешалось головные уборы и калоши брать с собой в парту. За уроком Петра Никитича, поспорив с Ваней, у кого на фуражке больше значок, я вынул её и хотел ему показать. Это увидел учитель и, не говоря ни слова, взял меня за рукав и вывел к доске. Я сильно покраснел и стоял до конца урока, не поднимая глаз. Это было для меня первое и последнее наказание за все время моего пребывания в гимназии.
Во время перемен все ученики в обязательном порядке выходили в актовый зал, который находился в том же этаже, через коридор от нашего класса. Мне этот зал казался огромным, так как таких больших комнат мне никогда не приходилось видеть. В глубине зала, у окон, выходящих на Гимназический переулок, был невысокий помост для эстрадных и прочих выступлений, а на стене висели два больших овальных портрета царя Николая II и царицы Александры Федоровны, в золотых рамках с коронами наверху. В других простенках между окнами, выходящими на Муравьеву, были во весь рост раскрашенные портреты всех императоров, начиная с Александра I.
Из зала, справа в углу, была дверь в умывальную комнату и палатку, как у нас называлась уборная. Посередине той же правой стены была дверь в квартиру директора. Вокруг стен стояли тяжелые дубовые скамейки со спинками. Шустрые мальчишки в перемену устраивали подвижные игры и беготню, катаясь на ногах по гладко натертому паркету.
Я никогда не принимал участия в шумных, подвижных играх, а сидел на скамейке, дожидаясь звонка на урок. Если во время перемены проходил через зал в свою квартиру директор Николай Николаевич Шамонин, то он всегда останавливался среди зала и кричал на учеников громким голосом. Мгновенно шум и крики стихали, и ученики как бы замирали на месте и потом тихо направлялись к скамейкам.
В большую перемену я бегал домой завтракать. Заботливая мамочка всегда к этому времени приготовляла вкусный горячий завтрак, стакан молока или чашку чаю. Вначале очень трудно было просидеть пять уроков в день, а ещё тяжелее было готовить уроки дома, в особенности весной и ранней осенью. Природа звала на свежий воздух, во двор, в сад или на Муравьевку. Тяжело было приучить себя к режиму, но другого выхода не было.
Как-то за уроком закона Божьего я, видимо, задумался или засмотрелся в окно и не слышал объяснения о. Аполлоса. Он это заметил и заставил меня повторить то, что он рассказывал. Я, конечно, ничего не знал и стоял, потупив глаза на парту. Он посадил меня и поставил единицу. Правда, на другой день он вызвал меня к столу, я ответил урок без запинки, и он переделал единицу на четверку. В бальнике, который вручался нам каждую субботу для показа родителям, за эту неделю в графе "внимание", вместо ожидаемой пятерки, была четверка.
Помню, в октябре месяце, утром, к зданию гимназии стройными рядами подошли семинаристы, гимназистки Григоровской гимназии и учащиеся химико-технического училища имени Чижова с целью снять с уроков гимназистов старших классов с тем, чтобы отметить годовщину избиения участников митинга на Сусанинской площади 19 октября 1905 года.
Напуганная революцией, администрация гимназии препятствий не чинила и полицию не вызвала. Демонстранты вошли в актовый зал, развернули красные и чёрные флаги и начали митинг. Старшие гимназисты с уроков были сняты и вошли в зал.
Нас же Петр Никитич из класса не выпустил, но урока не проводил, так как стоял у выходной двери. Мы смирно сидели за партами, хорошо слышали речи ораторов, а потом и пенье: "Вы жертвою пали…" и "Марсельезу". Вскоре все разошлись по своим учебным заведениям.
В этом же году мне впервые пришлось быть на общественной ёлке, которую организовали дамы-общественницы в том же актовом зале во время рождественских каникул.
Ёлка была до самого потолка и освещалась маленькими электрическими лампочками, видимо от батарей, так как электричества в то время в Костроме не было. Ёлка все время крутилась. Это тоже вызывало восторг. Зал был украшен зелеными гирляндами из ветвей ели, по стенам, также в обрамлении ельника, были развешены картонные золотые щиты и гербы. Кругом были гирлянды флажков. Запах хвои смешивался с запахом дорогих духов дам-патронесс, играл гимназический симфонический оркестр, угощали мороженым. Я был с мамой и Володей. Здесь я уже веселился, играл вместе со всеми в подвижные игры вокруг ёлки и даже принимал участие в хоровом пении. Всё было очень весело и ново для меня. Финал был несколько омрачён. Все получили пакеты с фруктами, орехами, конфетами и пряниками, а в конце вечера ёлку умышленно повалили на пол и устроили "свалку", разрешив снимать себе с елки игрушки, какие кому нравятся. Вот тут-то, из-за своей скромности и малоподвижности, мне получить ничего не пришлось. Володя же снял маленького металлического коня. Мне было очень обидно на себя, но все же этот праздник остался мне памятным на всю жизнь
Быстро шло время. Прошла Масленица, наступил Великий пост, пахнуло весной. Для меня же снова явилась забота — мне предстояло идти на исповедь и причастье, так как после Пасхи нужно было представлять в гимназию справку из церкви. Причащаться я любил, так как там давали попить теплого красного вина, хотя и разбавленного водой, а вот, как исповедываться, о каких грехах говорить попу — это было для меня большой задачей. Но всё сложилось очень хорошо. Мама повела меня в церковь Бориса и Глеба, где отец Алексей Андроников детей не заставлял рассказывать о своих грехах, а говорил сам, что надо делать, как почитать своих родителей и наставников, как любить Бога, царя и прочее. Потом накрывал исповедуемому голову епитрахилью и читал какую-то молитву. На другой день мы торжественно принимали "тело и кровь Христову".
А там веселые пасхальные каникулы, ледоход на Волге и кругом весна. Двадцатого мая кончался для меня первый гимназический учебный год. Вступительные экзамены в первый класс трудности не представляли — я их успешно выдержал и стал уже настоящим гимназистом. Все учащиеся, поступающие из приготовительного класса, зачислялись в первое отделение, а остальные — во второе. Первое отделение почему-то считалось привилегированным, видимо потому, что туда же зачислялись пансионеры из дворян, а также дети видных и чиновных костромичей. В моё время в гимназии уже не было "палочной" дисциплины и грубого обращения с учениками. Наоборот, обращение учительского и обслуживающего персонала было подчёркнуто вежливо. Нас, малышей, уже с первого класса называли на "Вы", а при обращении к ученику говорили: "Господин такой-то", называя только по фамилиям.
(…)
Я не буду подробно описывать обучение в первых классах гимназии, так как оно ничем не отличалось от обучения в любой школе того времени. Уроки, перемены и опять — уроки и перемены.
С первого класса было уже раздельное предметное преподавание. Пришли новые учителя, так как Пётр Никитич и о. Аполлос были допущены к преподаванию только в приготовительном классе, как не имевшие высшего образования. Самым строгим и уважаемым учителем был у нас математик Павел Дмитриевич Яковлев. Он никогда не повышал голоса, никому не делал ни одного замечания, был строг, никогда не шутил и никогда не улыбался.
Он говорил мало, но веско и убедительно. До сих пор не могу понять, какие внутренние силы его психики действовали на учащихся, но ни один из нас никогда не решился бы за его уроком допустить какой-либо шум или неуместную выходку. Не помню случая, чтобы он кого-нибудь удалил из класса, записал в "кондуит" или поставил в угол. Ни один гимназист не приходил на его урок не подготовившись, но все же двойки были, так как Павел Дмитриевич требовал сознательного усвоения материала, а не зубрежки.
Несколько в другом духе был преподаватель немецкого языка Карл Карлович Дотцауер. Это был высокий, плотный старик с окладистой, седой бородой. Говорил он с большим акцентом. Мы его боялись, так как он был вспыльчив, иногда громко кричал на тех, кто плохо был подготовлен. В таком состоянии он щедро награждал двойками. Когда же он бывал в добродушном настроении, он шутил и подсмеивался над "незнайками", всегда говоря: "Тышка, патышка, что ты говоришь-ка". Он любил русские пословицы, но часто их перевирал. Например, говорил: "Пуганая ворона на хвост садится", "Не страшен черт, как его малютка".
Большинство из нас не любили немецкий язык, так как он преподносился Карлом Карловичем с повышенными требованиями. Так, например, уже во втором полугодии в первом классе он заставлял нас объяснять содержание какой-нибудь раскрашенной картины из немецкой жизни на немецком языке с полным соблюдением правил грамматики. Требователен был и к диктантам, за которые я неоднократно получал у него двойки.
Вольно держали себя некоторые гимназисты на уроках русского языка у учителя Виктора Ивановича Кузнецова, на уроках природоведения у Дмитрия Сергеевича Селезнёва, а особенно — на уроках рисования и чистописания у Дмитрия Николаевича Сизова. Боялись и слушались законоучителя о. Василия Соколова, но его почему-то в том же году с работы сняли, и на его место был назначен о. Михаил Раевский, который во все последующие годы был классным наставником этого класса. Это был болезненный, худой, невысокий человек, которого мы все искренне уважали за его справедливость и доброту. Оценок по закону Божьему у нас никто ниже пяти не имел. Я здесь назвал только тех учителей, которые преподавали в первых двух классах, о других же будет разговор в дальнейшем.
Надо отдать справедливость гимназии в том, что почти все уроки хорошо оснащались наглядностью. Много было различных приборов и пособий, реактивов, картин, схем, карт, атласов и прочее.
Надо сказать, что в гимназический курс совершенно не входило преподавание, как отдельных предметов, географии и химии. Краткое понятие об этих дисциплинах давалось в курсе природоведения. Кончая гимназию, мы не знали ни одной химической формулы, но зато могли похвастать знаниями древних и новых языков, из которых обязательными были латинский, немецкий и французский.
Продолжаю описание нашей домашней жизни.
В эти годы у моих родителей возобновилось знакомство со старыми друзьями — Ладе Георгичем Христиановичем и Маргаритой Фёдоровной. Это были обрусевшие немцы Поволжья. До приезда в Кострому Георгий Христианович работал управляющим министра внутренних дел Плеве в Порошине близ Плёса. В Костроме он устроился заведующим казенной винной лавкой на Молочной горе, и тут же ему была предоставлена квартира; они были несколько моложе моих родителей, но дружили ещё со времени первого пребывания моих родителей в Костроме.
У них было много детей различного возраста: Мария, Елизавета, Шарлотта, Фридрих, Амалия, Маргарита, София и Эльфрида; старшей, Марии, было около двадцати лет, и она в этом году вышла замуж и уехала в Москву. Елизавета была ровесницей Жени, Фридрих, или Фриц, был старше меня на один год, Амалия была ровесницей Володи, а Маргарита — Лизы, а остальные две девочки были еще моложе. Дружба нашей семьи с Ладе была очень крепкой, и друг друга мы навещали довольно часто. С нами, мальчиками, дружил Фридрих, которого в тот год устроили учиться во 2-ю гимназию, а с Лизой дружила Маргарита, днюя и ночуя у нас по неделям.
Таким образом, наш круг знакомства ограничивался семьями Василевских, Ладе и И.Н. Колгушкина. Кроме того, в праздники нашу семью навещали Д.И. Михин, Павлов, Г.Д. Рубин, дьякон Рождественской церкви Федор Иванович Сперанский, а вскоре сдружился с нашей семьей и Пётр Никитич Виноградов, который, навещая нас с Володей как классный наставник, сблизился с родителями и стал нашим желанным гостем и другом.
Даже сейчас, спустя десятки лет, меня просто поражает энергия, изворотливость и хозяйственная сметка мамы. Так, например, для увеличения бюджета семьи она решила взять 8-10 человек учениц епархиального училища на полный пансион, с оплатой за квартиру, стол и все прочее обслуживание по 10 рублей в месяц с человека. И вот в течение 2-3-х лет они вдвоём с Машей обслуживали такую большую семью.
Комнату же над парадным входом она сдавала одиноким квартирантам, с питанием, за 30-36 руб. в месяц. Припоминаю некоторых из них: чиновники особых поручений при губернаторе П.П. Ануфриев, Скалон, К.Н. Друцкой-Сокольнинский, учитель гимназии В.В. Крашенинников и другие.
Мирно и безмятежно текла наша жизнь, но это только казалось нам так в то время. На самом же деде папина болезнь прогрессировала. Он стал ходить все хуже и хуже, начало слабеть зрение, он сделался очень раздражительным, капризным и, как я узнал потом, сильно ревновал маму ко всем знакомым мужчинам, в особенности к квартирантам.
(…)
Каждые каникулы сестра Женя приезжала домой и всегда привозила нам какие-нибудь небольшие подарки. Особенно памятны мне большие шоколадные кошки в красивых картонных коробках. От кошек аппетитно пахло шоколадом и лаком. Эти кошечки жили у нас долго, но постепенно у них стали исчезать хвосты, лапки, а потом и головы — мы медленно их съедали. В качестве сувениров в каждой кошечке мы нашли завернутые в папиросную бумагу какие-то бронзовые брелоки.
Мама стала замечать, что Женя сильно худеет, нервничает и всегда торопится скорее вернуться в Кинешму. Она начала расспрашивать её и, наконец, выпытала, что у ней серьезный роман с хозяйским сыном Дмитрием Соколовским. Это был молодой человек, лет двадцати шести, высокий, стройный, энергичный, но в то же время неразговорчивый, замкнутый и очень самолюбивый. Он сдал экзамен на звание народного учителя, но места ему не давали, так как он за революционную работу был под надзором полиции.
За расклейку прокламаций по городу Кинешме он привлекался к ответственности и в 1905 году в административном порядке высылался в Нижегородскую губернию. Средства к жизни он добывал репортерской работой. Очень талантливо писал сатирический раешник, который печатался в костромском "Поволжском вестнике". Туда же он давал и хронику.
Большим ударом для родителей был этот роман. Для Жени им хотелось иметь мужа обеспеченного и, как тогда говорили, с положением. В данном же случае ждать чего-либо постоянного было трудно. Соколовский не мог поступить на государственную службу по политической неблагонадежности. Даже проживание в губернском городе ему разрешалось не более трех месяцев. Он имел, так называемый, "волчий билет".
А женихи-то у Жени были. О двух из них мне и хочется вспомнить. Как-то, за 2-3 года до описываемого мною периода, к нам частенько стал наезжать знакомый архимандрит и настоятель Бабаевского монастыря, по фамилии Татауровский. Он присматривался к Жене и все время нахваливал своего брата Николая, который служил где-то в пехотном полку и имел чин капитана. Тот собирался жениться. В то время ему было уже под сорок лет. Как-то архимандрит привез его к нам, чтобы познакомиться.
На моих родителей он произвёл хорошее впечатление. Был он высокого роста, со светло-серыми глазами, русый, имел пышные усы, лицо было симпатичное, но носило на себе следы бурной жизни. Как потом оказалось, он имел крупные долги и не находил другого выхода, как восстановить свою репутацию и расплатиться с долгами выгодной женитьбой.
Пока "молодой" Татауровский гулял с Женей по городу, его старший брат договаривался с родителями. Без всяких обиняков он сказал, что брату нужны деньги и он не может согласиться на брак, если в числе приданого не будет 10000 рублей наличными деньгами.
Конечно, таких денег у моих родителей не было, и эта сделка не состоялась. Братья уехали и больше у нас никогда не были. Много позднее мама узнала, что Николай Татауровский выгодно женился на дочери богатого сельского священника. В приданое получил церковный приход, имущество, деньги и, выйдя в отставку, стал священником, так как он в свое время окончил духовную семинарию.
Запомнился ещё один интересный претендент в женихи. Это был учитель Кинешемского городского училища, где преподавала Женя, Василий Васильевич Коновалов. Он ухаживал за Женей в Кинешме, а летом приехал в Кострому и явился к родителям с официальным предложением "руки и сердца" Жене.
Из разговоров они знали, что Коновалов недалёкого ума, большой материалист, скупой до болезни, сероват в обращении с людьми и весьма неинтересный как мужчина. Он пришёл к вечеру. Чай был, как всегда в хорошую погоду, накрыт на улице у ворот, где у нас в то время был постоянный стол и под углом две скамейки. Мы любили там пить чай, чтобы обязательно на столе кипел самовар, дымящий шишками.
Коновалов был высокого роста, угловатый в движениях мужчина, лет тридцати, с некрасивым широкоскулым лицом и небольшими русыми усами. Трудно подумать, чтобы он мог понравиться развитой и воспитанной девушке. Подходя к чайному столу, где уже сидела вся наша семья, он, чтобы что-нибудь сказать, взглянув в небо и увидев летящую стаю ворон и галок, вымолвил: "Сколько много, необходимо, больше ста!" Впоследствии мы все очень долго смеялись над этим "афоризмом". Сидя за столом, он рассматривал чайный сервиз, щупал скатерть и все время спрашивал родителей: "Это, наверное, дорого стоит?" или: "А сколько Вы платили за эту вещь?" Потом стал посвящать всех в свои планы на жизнь и показывал заранее составленный список вещевого приданого, которое он должен выговорить за своей невестой. Там было указано все, начиная от обстановки, посуды, постельного белья до мелочей женского туалета. Такого жениха сами родители не пожелали Жене. Конечно, в этот раз сказали ему обычную в таких случаях фразу: "Мы подумаем и обсудим".
Были и другие, более подходящие, но Женя в то время ни от кого никаких ухаживаний не принимала. Это-то и натолкнуло моих родителей на мысль, что её сердце уже занято. Они категорически запретили Жене даже думать о браке с Соколовским и просили её перевестись по работе в другое место.
Казалось, что Женя всё поняла, но на деле получилось совсем не так. К началу учебного года Женя опять уехала в Кинешму. На рождественские каникулы не приехала вовсе, а весной нам сообщили, что она серьезно заболела. Мама срочно выехала туда и привезла её домой почти в бессознательном состоянии.
Были приглашены лучшие костромские врачи: Зеленский, Понизовский, Дримпельман и другие, которые поставили диагноз: тяжёлая форма нервной горячки. Женя была в бессознательном состоянии, фельдшера Иван Николаевич и Геннадий Давыдович по очереди дежурили у её кровати. Часто в беспамятстве она вскакивала с кровати, пытаясь куда-то бежать, бессвязно бредила, иногда поминая имя Дмитрия. Было похоже на полное психическое помешательство, причём при очень высокой температуре. Врачи уже не ручались за благополучный исход болезни, а потому родители решили её причастить и пособоровать.
Всю эту картину я хорошо помню. Особенно врезался в память обряд соборования. Два священника и два дьякона, облаченные в чёрные ризы, с кадилами, пели какие-то траурные песнопения, напоминающие отпевание покойника или панихиду, над головой и в ногах стояли большие свечи в подсвечниках. В руках всех присутствующих также были зажженные свечи. Женщины плакали. Потом священники помазали больную мирром, т.е, душистым маслом, — лоб, щёки, руки и ноги болящей, изображая на коже маленькой кисточкой кресты, и причащали её. Наконец, читали, так называемую, "отходную". Все присутствующие в это время вставали на колени. Женя была в полусознании, и, когда ей предлагали перекреститься, она крестилась.
В последующие дни улучшения состояния больной не было. Кто-то посоветовал вызвать Дмитрия Соколовского. Срочно послали телеграмму, и на другой день он приехал. Женя, услышав его голос, пришла в сознание. Он не отходил от её кровати в течение целой недели. Болезнь быстро пошла на излечение, и через несколько дней Женя уже была в состоянии вставать с постели. От неё тщательно скрывали обряд соборования, так как в то время было предубеждение, что соборованный человек не должен вступать в брак, а должен идти в монастырь.
Родители, учтя обоюдную любовь этой пары, решили больше не препятствовать их браку, но просили особенно не торопиться и дать время подготовить необходимое приданое. Весной 1909 года у Дмитрия кончался срок политических ограничений и он освобождался из-под надзора полиции.
Медицина
Однажды вечером в конце июня месяца, сидя за вечерним чаем на своем излюбленном месте, мы были напуганы каким-то шумом и хлопками вроде выстрелов, которые с большой скоростью приближались с запада. В те времена, конечно, не летали ни самолеты, ни ракеты. Мы все подняли вверх головы и увидели, как какой-то раскаленный огненный шар, очень напоминающий по величине и форме наш медный самовар, с огромным шумом промчался в восточном направлении, оставляя за собой длинный светящийся хвост.
Мы все были страшно поражены этим явлением, не зная, на что подумать. Родители вывели заключение, что это не что иное, как “огненный змий”. Через несколько дней узнали, что в Сибири, в районе реки Подкаменной Тунгуски, упал небывалой величины метеорит.
Среди простого народа шли слухи, что в мире обязательно что-то должно случиться. Одни говорили, что скоро опять будет война, другие ждали второго пришествия. Ни того, ни другого не случилось, а произошло неожиданное и вовсе не связанное с метеоритом событие.
В июле месяце Кострому навестила холера, пришедшая вместе с яблоками и арбузами из Астрахани и Царицына. Сперва были отдельные случаи заболеваний среди работников пароходств и грузчиков, а потом заболевание быстро стало распространяться и на горожан. Все возможные в то время меры были приняты. Санитарные организации вывешивали объявления, плакаты и аншлаги с предупреждением, чтобы не пить сырой воды, не купаться, не есть непромытые в кипящей воде фрукты и овощи.
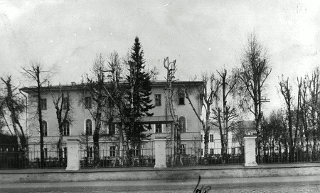
Главный корпус Костромской губернской больницы 1913 гг.
Имеющихся больничных стационаров уже не хватало. Были специально построены большие тесовые бараки около пристаней и в конце Мясницкой улицы. Над бараками вывешивались желтые флаги как символы острозаразного заболевания. По улицам города разъезжали закрытые фуры с такими же флагами. Везде в городе пахло карболовой кислотой. Широко применялся известковый раствор, которым заливали умерших от холеры, уборные, выгребные ямы и прочие места общественного пользования.
Наибольшее количество заболеваний падало на городские окраины, на Заволжье, фабричную часть города, но и в нашем районе также были случаи заболеваний, даже молниеносной формой холеры. Так, один из них пришлось наблюдать мне на нашем дворе. К прислуге жильцов из третьей квартиры пришёл её родственник, красивый, кудрявый паренёк лет 16-ти, и сел на крыльцо. Я его знал, подошел к нему и присел рядом. Мы стали о чем-то говорить. Вдруг он схватился за живот, застонал и очень побледнел. Я напугался и отбежал от него на своё крыльцо. Выбежали его родственница и другие жильцы. Все сразу определили приступ холеры. Побежали в санитарный пункт. Мальчик упал на землю, у него открылась рвота, он стонал и корчился от судорог, сильно скрежеща зубами. Скоро приехала фура. Больного отвезли в барак, а место, где он сидел и лежал, облили раствором негашеной извести и карболовой кислотой. К вечеру паренек умер. Смертельных случаев было много, так что в конце Лазаревского кладбища пришлось отводить специальное место.
К счастью, холера свирепствовала недолго. К концу сентября месяца эпидемия прекратилась, с тем чтобы в следующем году вспыхнуть с ещё большей силой.
Отдых и развлечения
Попутно хочется вспомнить о свободном от классных занятий времени. О том, какие игры и развлечения занимали нас в первые годы ученической жизни.
В стенах гимназии, кроме шумных подвижных игр, мы организовывали и тихие. Так, в первых классах все до одного увлекались игрой в “пёрышки”, в “картинки” и в “фантики”. Каждый гимназист имел целую коллекцию перьев, которые, в зависимости от их формы, отделки и величины, имели различную условную стоимость, независимо от того, сколько за них было уплачено в книжном магазине. Игры в пёрышки были разнообразны. В одном случае они напоминали игру в “чижика”. На тупую часть пера надавливали другим пером, пытаясь его перевернуть и, таким образом, выиграть; в другом случае, как и в игре в фанты, перо клали на ладонь и ударяли ей о край парты, стараясь попасть своим пером в перо партнера, и т.д.
Большой азарт вызывала игра в картинки. Во всех писчебумажных магазинах продавались красивые штампованные картинки из тонкого картона, изображающие цветы, небольшие пейзажи, букеты и пр. Они продавались целыми небольшими листами и предназначались для наклейки в альбомы, что и делали девочки. Нас же интересовал азарт выигрыша. От листа отрывались отдельные картинки, закладывались в какую-нибудь книгу через лист или через два, а потом игроки пером просовывали между листов книги. Если игрок не попадал туда, где была вложена картинка, он отдавал перо, а попавший брал себе картинку. Такие игры, как вызывающее азарт и материальные расходы, в классе не разрешались, но и строго не преследовались.
В гимназии была своя самодеятельность, ставили театральные постановки, проводили концерты и устраивали танцевальные вечера. У старших гимназистов был очень неплохой хор, под управлением классного надзирателя и учителя пения Б.В. Пиллера, был симфонический оркестр, руководимый учителем музыки. На школьные вечера приглашались родители и гимназистки. Выступали хор, оркестр и солисты. Хорошими вокальными данными владели Николай Сологуб и Иван Виноградов, руководил танцами восьмиклассник Треберт, соло на скрипке исполнял Антон Цимблер, а драмкружок был в руках Бориса Славочинского, который впоследствии, окончив университет и получив диплом врача, всю жизнь отдал театру, выступая под фамилией-псевдонимом “Седой”.
К сожалению, все они окончили гимназию, пока я был в первых двух классах. На их место подрастали новые и новые кадры, пока очередь не дошла и до нашего класса. Нередко по праздничным дням организовывались литературные чтения, так называемые “воскресники”, — силами старших гимназистов и некоторых учителей. Чтения сопровождались показом цветных картин с помощью проекционного фонаря. Так как в Костроме в то время электрического освещения не было, то фонарь освещался ацетиленом, получаемым из карбида кальция. Запах в помещении был очень сильный, и у всех по окончании сеансов всегда болела голова.
Кино тогда только начинало входить в обращение и было монополией временных тесовых балаганов, которые устанавливались на площадях во время ярмарок и народных гуляний в Рождество, Масленицу и в Пасху. Показывали тогда за пять копеек маленькие эпизоды из японской войны, комедии-шутки с участием американского киноартиста Макса Линдера, похождения Глупышкина и другие. Были иногда и цветные феерии, но длина пленки была не более 300-400 метров и весь сеанс длился около 15 минут. Стук, трескотня и шум движка сотрясали балаган и заглушали все звуки, вплоть до музыкального инструмента, сопровождающего сеанс, так как кино, конечно, было немое. Видимость на экране была плохая, как сквозь дождь, движения неестественные и неравномерные, так как аппарат приводился в движение с помощью ручки руками. Такие увеселительные предприятия почему-то назывались “синематографами”. Не зная лучшего, мы их охотно посещали.
Много веселее и разнообразнее были игры дома, во дворе, на улице и на Муравьевке. Эти игры с возрастом приобретали различное содержание, меняясь и усложняясь, но они всегда носили массовый, групповой характер и отражали всевозможные события, происходящие в то время в России. Во время японской войны мы играли в войну и революцию, но больше всего любили играть в “казаки-разбойники” и в “сыщиков”.
Большими выдумщиками в этой части были Слава Василевский и брат Володя. Когда Слава начал учиться в Ярославском кадетском корпусе, то все каникулы проводил у нас, даже с ночёвками. Кроме того, к нам в то время приехали новые квартиранты — Моргенфельды, у которых были три дочери, учительницы музыки по классу рояля, и младший сын Карлуша, который ещё не учился в гимназии, но ходил в детскую музыкальную школу. Их родители, Карл Христианович и Августина Карловна, были уже в пожилом возрасте. Это были типичные немцы, педантичные, со строгим распорядком дня, пунктуальные и с претензией на аристократизм.
С Карлушей мы очень сдружились, так как по возрасту он был нам ровесник. Нам всегда было смешно, когда заигравшегося с нами мальчонка к вечеру вызывали домой, переодевали в детский костюмчик немецкого образца, с большим, белым, крепко накрахмаленным воротничком, в виде хомута, и с огромным шёлковым галстуком, а на “долговязые” ноги надевали детские коротенькие штанишки и фасонные туфли, а потом вели его на городской бульвар, где он был обязан сидеть около сестёр и, конечно, страшно скучать. Мы всеми средствами старались избавить его от таких испытаний и часто к этому часу уводили его на Волгу или в ближайший лес. Потом он получал выговор и даже иногда ставился в угол, но всё же весело проведённое с нами время стоило того, чтобы полчаса постоять в углу, чем три часа без движения высидеть на бульваре. Нам очень нравилось нарушать режим семьи Моргенфельдов, и мы постоянно придумывали средства для этого, перевоспитывая Карлушу в более вольном духе.
Мы очень часто играли в солдаты. Роль офицера выполняли я или Слава, Володя был знаменосцем, а Карлуша один выполнял роль целого духового оркестра. Инструментом ему служила одна большая садовая лейка. В трубку он издавал музыкальные звуки, а дно лейки служило барабаном. Имея большие музыкальные способности, Карлуша выполнял свою роль отлично. Ребятишек для игры мы приглашали со всех дворов, и их набиралось человек до пятнадцати.
Происходили у нас и “войны”, которые чаще всего были с ребятами Дурляпиными, проживавшими на соседнем дворе, примыкающем к нашему двору с задней стороны; у них также собиралось целое “войско”. Активное участие в военных играх с их стороны принимала старшая сестрица Шура Дурляпина, которая по азарту и смелости превосходила любого озорного мальчишку. Ей в то время было около шестнадцати лет. Это была очень симпатичная блондинка, но мы ее просто ненавидели и дразнили “белобрысой крысой”. Война иногда принимала столь угрожающие формы, что приходилось вмешиваться родителям обеих сторон. В особенности было опасно, когда в ход пускались большие камни. Тогда разбивались лица и стёкла в окнах дурляпинского дома. Мы прятались в крепости, сооружённой из больших ящиков.
Однажды из ихнего двора к нам был подослан “лазутчик”, который заявил, что не желает больше дружить с Дурляпиными, так как они его побили. Не проверив как нужно, мы приняли его в наше “войско” и произвели в знаменосцы. Как-то, проходя строем мимо забора дурляпинского двора, он быстро перебросил “знамя” через забор и перескочил туда сам. Мы сначала растерялись, а потом на “военном совете” решили зазвать его к себе и наказать. Начали переговоры. Он согласился вернуть знамя и снова дружить с нами. Мы собрали “военный суд” на чердаке над погребами. Было постановлено виновного наказать двадцатью ударами ремнём. “Экзекутором” был назначен Слава Василевский. Мы связали “преступнику” руки и увели его в “проулок” между флигелем и забором, сняли с него штаны, примерно выпороли, в штаны положили крапивы и выгнали его со двора. Больше он к нам не показывался и никому не жаловался.
Много было у нас забав, и не только военного направления. Однажды по инициативе Славы мы решили через вырытую яму пролезть в Америку. Недолго раздумывая, мы приступили к осуществлению этого плана. В этом “сложном” мероприятии принимали участие я, Володя, Слава, Фриц и Карлуша. Яму начали рыть за сараем. Когда не стало возможности выбрасывать песок лопатами, мы приспособили вёдра с верёвками. Уже вырыли яму аршин на пять глубины, когда, на наше счастье, это увидел кто-то из взрослых и сообщил маме. Нам было предложено яму тут же засыпать и разъяснено, какой опасности мы подвергались, так как обвал ямы неминуем, и те, кто находились бы в тот момент в яме, обязательно погибли бы. Иницаторам, не взирая на лица, была учинена хорошая порка.
Бывали у нас забавы и озорного свойства. Так, иногда, мы на тротуаре по другую сторону улицы по вечерам протягивали тонкую проволоку и через щели забора наблюдали затем, как там падали пешеходы; или же клали на тротуар старый кошелёк с ниточкой, протянутой в щель забора. Когда проходящие нагибались, чтобы его поднять, мы тянули его под забор. Ещё придумывали побдрасывать пакетики из-под чая, куда насыпали сухой травы, коробки из-под шоколада с черепками и прочее и следили, как проходящие, быстро подняв найденное и оглядываясь, быстро уходили. Нам всё это было очень забавно. Увлекшись такими развлечениями, сестра Лиза однажды подобрала новую коробку из-под обуви и, положив туда свои новые ботинки с новыми калошами, также вынесла на тротуар. Хорошо, что это заметила мама и предотвратила, а то бы прохожий был очень рад находке.
Мы знали всех людей, постоянно и в определённые часы проходивших мимо дома. Были объекты, над которыми мы постоянно подсмеивались и их дразнили. Так, ежедневно проходил мимо отставной старый исправник Перрате, очень полный и низкого роста. Его мы дразнили “бочкой”. Он сердился, грозил нам палкой и даже ходил жаловаться на нас родителям, а это нас забавляло. Дразнили мы и молодого чиновника, который поражал всех огромным ростом. Когда он проходил по улице, то его голова была выше забора. Его звали “полтора чиновника”, а настоящей фамилии его я не помню. Мы всегда ему вслед кричали: “Дяденька, достань воробышка!”
Все эти забавы были у нас в самые ранние гимназические годы. С возрастом содержание и характер игр изменялся и усложнялся. Но военные игры очень долго не снимались с нашего репертуара. Мы играли и в такие игры, как крокет, кегли, лапта, городки и чижик, но никогда не увлекались играми на деньги.
Ещё надо сказать, что мы мало занимались чтением книг, за исключением похождений сыщиков, которыми увлекались очень серьёзно, расходуя на покупку книжек все деньги, заработанные “честным трудом” от продажи утиля, собранного по свалкам и помойным ямам.
(…)

Набережная возле церкви Вознесения на Дебре.
Как-то жарким летним полднем, играя во дворе, мы услышали редкие колокольные удары. Стали их считать. Насчитав двенадцать ударов, мы поняли, что умер какой-то священник. Выйдя на улицу, увидели бегущий по Муравьёвке народ. Тут мы узнали, что на Нижней Дебре бандиты вырезали целую семью священника Бушневского. Подбежав к дому, услышали, что кроме священника, зарезаны его жена и прислуга. Бандиты забрали ценные вещи и скрылись. Нам очень хотелось увидеть погибших, но полиция в дом никого не допускала. Через три дня мы увидели похоронную процессию, которую и сопровождали до самых могил на Лазаревском кладбище. Всех очень удивляло, что в этой процессии не было гроба с телом прислуги. Её хоронили более скромно, спустя несколько часов. Социальное неравенство сказалось и тут, несмотря на то, что человек погиб за имущество своих хозяев. Позднее на главной аллее кладбища мы любовались двумя большими красивыми памятниками из красноватого мрамора, а креста на могиле прислуги и даже самой могилы мы так и не нашли.
Пожарная команда
Подростки, как известно, самый любопытный народ в мире: где бы в окрестности ни случилось какое-нибудь происшествие — они тут как тут. Драка ли среди пьяных с вмешательством полиции, семейный ли скандал, ловля ли бродячих собак, похороны, свадьбы ли — им всё надо видеть и всё знать. Самым же важным происшествием в городе у нас считались пожары. Тут уж без нашего присутствия не проходило ни одного из них. Как только мы слышали громкие, частые удары пожарного колокола, а потом грохот пожарного обоза о булыжную мостовую, мы все бежали в направлении звука.

Пожарная команда на фоне пожарной каланчи.
Действительно, выезд пожарных команд представлял из себя великолепное зрелище: прекрасно откормленные лошади галопом мчались по улицам. Впереди всех скакал верховой, в обязанность которого входило первым прибыть к месту пожара, а потом вернуться и вести за собой весь пожарный расчёт. За вестовым скакала четвёрка лошадей с брандмейстером, непрерывно трубящим сигнальщиком, топорниками, ствольщиками и пожарными других специальностей. На этих огромных красных дрогах были багры, раздвижные лестницы, пожарные рукава, ручная пожарная машина, факелы в медных подставках и прочий пожарный инвентарь. Всё блестело от ярко начищенной меди касок, факелов, стволов и прочего. За этой упряжкой мчалась тройка с пожарными машинами и добавочным пожарным инвентарём. А за ней следовало несколько парных упряжек с бочками воды.

Выезд пожарной команды Добровольного пожарного общества.
Тут было на что полюбоваться, в особенности, когда на большие пожары проводился сбор всех частей. Пожарных команд в то время в Костроме, не считая Заволжья и фабрик, было три, и все они отличались различной мастью лошадей: на главной пожарной части вначале были светло-серые, впоследствии заменённые вороными, на Воскресенской части были гнедые лошади и в добровольном пожарном обществе — светло-рыжие.

Каланча Воскресенской пожарной части 1924 гг.
Каждый выезд главной пожарной команды всегда сопровождала большая, мохнатая, рыжая собака из породы волкодавов, по кличке Бобка, общий любимец всех пожарных работников. Говорили, что на пожарах она не раз выносила из горящих домов детей.

Воскресенская пожарная часть под руководством брандмайора Г.И. Дурова 1923.
При звуке пожарного колокола этот постоянный и бессменный дежурный первым выскакивал в открытые ворота и всегда бежал сбоку головной упряжки. Будучи уже очень старым, Бобка как-то подвернулся под пожарные дроги и был задавлен насмерть. Из его шкуры сделали чучело, которое сохранялось в команде даже в революционные годы. Много лет спустя, по военной работе, мне приходилось часто бывать в пожарных командах и я видел чучело Бобки.
Там же мне приходилось наблюдать условный рефлекс, выработанный у лошадей на пожарные тревоги. Как только они слышали электрический звонок с каланчи, который заменил пожарный колокол, мгновенно рвались из своих станков к упряжкам. Хомуты с приподнятыми дышлами были всегда наготове. Быстро открывались стойки, и каждая лошадь стремительно бежала на своё место и всовывала голову в хомут. Даже огромный, белый, мохнатый козёл Кузя, или, как его чаще называли, “Василий Иванович”, и тот при тревоге вскакивал на ноги и громким блеянием высказывал свою нервозность, хотя на пожары его никогда не брали. Он часто гулял на пожарном дворе, а иногда выходил и на Сусанинскую площадь, к Мучным рядам, пугая прохожих своими огромными рогами с закреплённой спереди их медной доской. Кстати сказать, пожарные приучили его к курению и оставляли ему недокуренные цигарки. Он делал несколько затяжек дымом, а потом с большим удовольствием разъжёвывал и съедал цигарки.
В каждой пожарной команде, как в любом конном парке, обязательно держали козлов по примете, что они оберегают лошадей от ласки — зверька, который щекочет лошадей и путает их гривы. Насколько это верно, я судить не берусь.
Припоминаю, что добровольная пожарная команда находилась на Марьинской (Шагова) улице, в красном кирпичном корпусе, на углу, а каланча с дежурным пожарником была вначале на верхнем этаже колокольни Покровской церкви, а потом — на вновь выстроенной водонапорной башне. Говорят, что раньше тут была деревянная каланча, которая сгорела, а дежурный спасся, прыгнув сверху на натянутый брезент. Этого я сам не помню.
Сравнивать по скорости прибытия на место пожара конного обоза с современным автомобильным транспортом, конечно, нельзя, но парадность выездов раньше была куда выше. При уровне пожарной техники того времени старые пожарные работали неплохо, и среди них было много энтузиастов своего дела, в особенности в добровольном обществе.(1)
Ярмарка
Я снова отвлекся от прямой задачи — изложения по памяти своей жизни в кругу родителей, близких родственников и верных друзей, но без описания жизни города и всей обстановки это изложение было бы куцее и не давало бы полного представления картины минувшего.
Прежде всего, болезнь папы быстро прогрессировала. Он сильно исхудал, ходить, даже опираясь на палку, он мог только с большим трудом, придерживаясь свободной рукой за косяки и мебель. У него тряслись ноги и очень болели (…). Он сделался до предела нервно-возбуждённым, каждый пустяк его раздражал и вызывал неудержимый гнев. Зрение и слух резко падали, и он почти не читал газет, а иногда даже не вставал днями с постели и просил пищу подавать в его комнату. Однажды я чем-то ему не потрафил за обеденным столом. Он вспылил и, размахнувшись своей палкой, ударил меня резиновым наконечником по голове. Я без сознания упал на пол. Придя через некоторое время в себя, я увидел вокруг всю нашу семью и папу, который ползал по полу, плакал и жарко меня целовал. Это происшествие не прошло для него бесследно — он слёг в постель на несколько дней, его сильно угнетала совесть за свой поступок, и ему было очень жаль меня. Вскоре его положили в Мещанскую больницу, и мы часто навещали его там. Он был очень слаб.
Было начало лета, стояли самые длинные, жаркие дни, в садах цвела сирень, а у меня на душе не было спокойно, так как я получил переэкзаменовку по математике. Мало того, что я огорчил этим своих родителей, но и себе испортил всё лето, а брат Володя злорадствовал, при всех называя меня тупицей и лентяем. Этим он часто доводил меня до слёз.
В то время как раз в городе открылась традиционная Девятая ярмарка, которая продолжалась две недели. Девятой она называлась по числу недель от Пасхи. В это время в Костроме в течение трёх воскресений проводились крестные ходы вокруг города в трёх разных его частях — в память больших пожаров, которым подвергалась Кострома в прошлом и позапрошлом веках. Ярмарка была большим праздником как для детей, так и для взрослых. Особенно многолюдно было в городе по воскресеньям, так как для участия в крестном ходе съезжалось множество крестьян из ближайших уездов.
На Сусанинской площади, в том месте, где в настоящее время разбит красивый сквер, а тогда была пустая булыжная мостовая, буквально за несколько дней, как “по щучьему велению”, строилось множество тесовых палаток, полков и балаганов, где раскладывались по полкам и витринам различные ярмарочные товары. Персы, армяне, грузины, сарты (узбеки), таджики и прочие восточные купцы привозили в огромном количестве сухие фрукты, различные орехи, кишмиш (изюм), турецкие рожки, “дивий мёд” и восточные сладости, а ярославские кондитеры Лопатины, Петровы и Сапожниковы в своих остеклённых тесовых магазинах художественно раскладывали по полкам и витринам разнообразные аппетитные пряники в виде огромных рыб и диковинных драконов, белую и розовую хос-халву, рахат-лукум, цукаты и всевозможные засахаренные фрукты и орехи. Целый ряд был с детскими игрушками, завезёнными из Сергиева-Посада, Палеха и Семёновского-Лапотного. Тут же были небольшие ларёчки, где на глазах покупателей делали сахарную вату, вафли, пончики, пирожки, пышки и сладкие огурчики, рядом торговали красным и ярко-жёлтым квасом и другими напитками.
Обязательным товаром с рук были воздушные шары, мячики на резинках, тёщины языки и надувающиеся резиновые “чёртики”. Только на ярмарках можно было приобрести так называемых “морских жителей”. Они были двух систем: одни представляли из себя запаянную с двух сторон толстую стеклянную трубку, длиной 25-30 см и диаметром около 3 см. Небольшое боковое отверстие затягивалось резиной. В трубку наливалась вода и помещался маленький стеклянный “чёртик”, жёлтого или зелёного цвета, с белым обвитым вокруг тела хвостиком, имеющим отверстие на конце. Нужно было взять трубку вертикально и нажимать на резину, тогда чёртик начинал кружиться и опускаться вниз. Продавали их всегда с различными присказками, вроде: “Три года картошку копал — на четвёртый в бутылку попал!”
Вторая модель представляла из себя также стеклянную трубку, но более тонкого стекла и меньшего диаметра, снизу было утолщение. В трубку, запаянную наглухо, был налит подкрашенный спирт и помещен такой же чёртик. Ее нужно было крепко зажать в кулак, при этом спирт в ней начинал кипеть, а чёртик — прыгать. Знающие физику сразу бы сказали, что это “кипятильник Франклина”, в основу которого положено кипение жидкости в разреженном пространстве при более низкой температуре. Эти игрушки пользовались большим спросом у мальчиков-подростков.
Последними около Мучных рядов, располагались палатки, торгующие текстильным лоскутом, деревянной посудой, иконами и сельхозинвентарём. На Льняной площадке, в том месте, где в настоящее время разбит сквер, против многоквартирных домов, за Мучными рядами, вырастали увеселительные предприятия. Обязательно ставились две карусели, иногда бывал цирк шапито, в ряд стояло несколько балаганов, где показывали различные фокусы, силачи поднимали штанги и гири, иногда и картонные. Были иллюзионисты, шпагоглотатели, укротители диких зверей, а также показывались различные человеческие уродства, вроде волосатых людей-собак, карликов и великанов и т.д.
С 1905 года появились, как я говорил выше, и синематографы.
Народ любил балаганы с “Петрушкой”. С утра и до позднего вечера на ярмарке не смолкали шум, музыка, писк рожков и резиновых чёртиков, крик, смех, плач детей и даже драки, избиение карманных воришек. Мы каждый день бегали на ярмарку, но туда нужны были деньги, а их у нас было в обрез.
Мама ассигновала каждому из нас по 20 копеек на неделю, но был у нас ещё один источник — это копилка, куда мы опускали медяки и серебро в будничные дни, а на ярмарку извлекали оттуда, но эти накопления были также весьма скудны. Деньги приходилось расходовать с большим расчётом, так как вход в любой балаган или синематограф был не менее 5 копеек, катание на карусели — 1 копейка, качели — 1 копейка, и, кроме того, надо было купить сластей, вроде сахарной ваты, на 1-2 копейки, хос-халвы, пряник и ещё что-нибудь.
Всегда очень хотелось попасть в цирк или паноптикум (музей восковых фигур с отделом анатомии), куда дети до 16 лет допускались только в первое отделение, и то вход стоил 10 копеек, а в цирк — не дешевле 20 копеек. Планировать деньги было очень трудно, так хотелось всё попробовать и везде побывать. В дни безденежья мы все же бегали на ярмарку хотя бы только любоваться игрушками, смотреть на персов с красными и синими бородами и слушать зазывал на балконах балаганов.
… Но вот в начале июня месяца доктор Понизовский предложил маме немедленно взять папу из больницы. Говорили, что он очень не любил, когда у него умирали больные, и всегда за несколько дней или часов до смерти безнадёжных больных отправлял домой. Мама сама видела, что папа очень слаб, и с большим трудом перевезла его домой. Он говорил очень тихо и невнятно, а двигаться почти не мог.
В этот день у нас заранее было условлено идти с мамой на ярмарку, а это значило, что нам предстояло много всего покупать и даже, может быть, побывать в цирке. О предстоящем походе мама сказала папе, и он, к общему удивлению, отдал ей кошелёк с деньгами, с которым раньше никогда не расставался, и сказал: “Купи ребятишкам гостинцев и по игрушке”.
Похороны
В отличном настроении мы пошли на ярмарку, взяв с собой и Машу. Гуляли там не менее трёх часов, а, придя домой, мы сразу побежали к папе, чтобы похвастать покупками, и тут же были очень удивлены тем, что папа крепко спал и очень громко храпел. Мама сразу поняла, что дело плохо, вызвала врача и оповестила всех знакомых. Первым прибежал Иван Николаевич, который тотчас же определил кровоизлияние в мозг и сказал, что храп может продолжаться ещё несколько часов. Пришли чета Ладе и Екатерина Михайловна. Приехавший доктор Понизовский подтвердил диагноз и сказал, что храп — это агония и его помощь бесполезна. Послали телеграммы Жене и всем близким родственникам. Папа храпел всё реже и реже. К утру он скончался.
Тело усопшего обмыли и положили на стол в зале. Утром служил панихиду причт Рождественской церкви, после них причт Борисоглебской церкви. В квартире пахло ладаном, горелым воском свечей и специфическим запахом, который почти всегда бывает при покойнике, даже в первые сутки после смерти. До самого выноса дни и ночи заунывным голосом читали монахини, приглашённые из Богоявленского женского монастыря. Приехали родственники: дядя Капитон с тёткой Соней, тётя Дуня из Петербурга, а также вся семья Соколовских из города Кинешмы.
Мама не желала брать похоронный катафалк или носилки, а потому договорилась с похоронным бюро нести покойника на руках с помощью новинных помочей. На второй день был привезён красивый, блестящий серебром, глазетовый гроб и небольшой металлический венок. Панихиды служили не менее 3-4 раз в день. Жизнь нашей семьи вышла из нормальной колеи, и мы, дети, временно были предоставлены сами себе.
Я впервые в жизни видел смерть близкого человека, и в моей голове рождались фантастические мысли о том, как бы сделать человека бессмертным. В своём воображении я представлял себя великим учёным, изобретшим средство от всех болезней и смерти. Мне было очень грустно и жаль папы, но я не плакал, считая слёзы уделом женщин. Большую помощь оказал нам Иван Николаевич, который все эти дни не оставлял нашей семьи и всем вселял бодрость своими рассказами и анекдотами, при нём как-то не так остро чувствовалась утрата дорогого и близкого нам человека.
Покойный был сплошь заложен цветами и ветками сирени. Было очень жарко, и это способствовало быстрому разложению тела. К тому же в последнюю ночь прошла сильная гроза, покойник почернел и никакие средства не в силах были смягчить трупный запах.
Утром 6 июня состоялись похороны. Похоронная процессия, по старому обычаю, представляла из себя следующее: впереди на некотором расстоянии ехала подвода с ельником, который бросали по ходу процессии, далее несли икону, за ней большой деревянный крест с перекинутой белой новиной, потом венок, крышку гроба и далее шли священнослужители в облачении с кадилами и пением, за ними шёл хор слепых певчих и несли покойника. За гробом шли родные, родственники и провожающие знакомые. В конце двигалась другая подвода, на которую складывали подобранный с земли ельник, с тем чтобы его использовать при дальнейшем следовании процессии на кладбище. Провожающих было не так уж много. После отпевания покойника в церкви Рождества, стоявшей на Царёвской улице (проспект Текстильщиков), процессия в том же порядке направилась на Лазаревское кладбище, где гроб был опущен в могилу в своей ограде, где уже были могилы моих сестёр, Клавдии и Тамары.
Все родственники и духовенство на извозчиках поехали на поминки. В зале были богато сервированы столы для поминального обеда, а в столовой специальные закусочные. Сервировка столов, приготовление поминального обеда, организация закусочной комнаты были поручены предпринимателю Сидоренко, бывшему повару, который славился в городе хорошей кухней и оборудованием парадных и похоронных обедов. Им за 100 рублей были представлены богатая сервировка, изысканные блюда и даже официанты во фраках и белых перчатках.
Помню, что все приходящие на поминки прежде всего подходили к кутье и съедали по ложечке, а потом шли к обеденному столу. В “красный угол” садились священники, рядом наша семья и все родственники покойного. Когда подали уху из осетрины, то все встали, начался короткий молебен, а потом протоиерей о. Алексей Андроников, как старший, благословил стол, и все приступили к “трапезе”. Помню, что на столе стояли кулебяки с визигой и какой-то другой начинкой, что-то подавали ещё из горячей пищи, и, наконец, был подан миндальный крем с миндальным же молоком. Пропели “Вечную память” и постепенно начали расходиться. Желающие посидеть шли в закусочную комнату, где к услугам гостей были всевозможные закуски, вплоть до зернистой икры, семги, омар и прочих деликатесов. Вина были самых различных марок. Тут же можно было попить чаю или кофе. Обслуживали в этой комнате также официанты. Обязанности метрдотеля здесь принял на себя Иван Николаевич и так увлёкся этим занятием, что от “усталости” обессилел и опять остался ночевать у нас.
Вот и всё. Не стало одного члена нашей семьи, её главы, мы осиротели. Впереди маму ожидала тяжёлая нагрузка воспитания детей, и эта энергичная женщина, не боясь никаких трудностей, умно и расчётливо организовала новую жизнь, преодолевая все трудности и, порой, материальные затруднения.
Кладбище
Через несколько недель после похорон на могиле папы поставили чёрный гранитный памятник с большим крестом из белого мрамора. На памятнике золотыми буквами были высечены фамилия, имя, отчество и дата рождения и смерти. На кресте был закреплён металлический венок с черными траурными шелковыми лентами.
Мы часто всей семьёй ходили на это старое кладбище. Под сенью вековых берёз и лип даже в самую жаркую погоду там всегда стояла приятная прохлада, так как солнечный луч с трудом проникал туда через густую листву. Кругом пели птицы, порхая с ветки на ветку, тихо шептали листки в кронах высоких деревьев, и стояла такая тишина, которая может быть только на старых кладбищах. На дорожках было много деревянных скамеек, а в оградах пышных цветов. Кладбище было богато разнообразными памятниками, надгробиями и разной формы крестами.
На некоторых из них были всевозможные надписи, стихами и прозой, выражающие скорбь или восхваление заслуг умерших, их труда при жизни и любовь к семье. Были и такие надписи, которые своей неграмотностью или явной неискренностью вызывали смех или возмущение, но никак не уважение к покойнику. В некоторых “изречениях” настолько отсутствовали какое-нибудь чувство и искренность, что казалось, все это сделано для оправдания не совсем чистой совести оставшейся в живых “половины”.
На меня всегда навевало какую-то грусть это место вечного упокоения. Я очень любил ходить среди могил и читать все эти надписи, в особенности на старых забытых могилах, а их на Лазаревском кладбище было довольно много. Были даже конца XVIII века. Читая надписи, я думал об этих умерших, задумывался над тем, как они жили в далёкое старое время, какие радости и горя они пережили, оставили ли после себя потомство и т.д. В то время мне уже доходил двенадцатый год, моё мировоззрение расширялось и я начал интересоваться более сложными жизненными вопросами. Мне в руки попадали естественные и медицинские журналы, брошюры и даже книги. Я стал задумываться над происхождением жизни на земле и появлением человека. Меня интересовали проблемы пола, семейной жизни и даже социальных отношений между людьми различных сословий и имущественного положения. Безусловно, всё это в самом примитивном, узко конкретном понимании.
Вот я стою перед небольшой чёрной металлической часовней, где написано, что тут погребены потомственные почётные граждане города Костромы Чумаковы, фабриканты-миллионеры. Их в этом семейном склепе было не менее десяти в различном возрасте. Обеспеченная, полная материальных благ жизнь этих людей не миновала конца, порой даже преждевременного. А вот другая большая деревянная полусгнившая ограда, где под простыми деревянными покосившимися крестами лежат одинокие престарелые женщины из Чижовской богадельни, которая в то время была в двухэтажном каменном доме тут же, впереди кладбища. Эти женщины прожили долгую жизнь, но каждая по-разному, а закончили её совершенно одинаково — одинокой старостью, призреваемой казённой благотворительностью. Рядом с этой оградой, у самого алтаря кладбищенской церкви, лежала вросшая в землю, поросшая зелёным лишайником чугунная плита, на которой было указано, что под ней похоронено тело жены священника, умершей в 1807 году, в возрасте 18 лет. “Прощай, прекрасная душой и телом, моя единственная…” — писал убитый горем муж. Да, здесь рано окончилась семейная жизнь для обоих, так как духовенству разрешалось вступать в брак только один раз в жизни.
Тут же недалеко стоял большой монументальный памятник над прахом генерал-аншефа Мещерского, “в Бозе почившего в 1800 году”, на 76-м году жизни. Вот этому человеку, наверное, жизнь дала немало радости. Он должен был видеть пышные празднества при дворе Екатерины II и Павла I , а, будучи на покое, он, наверное, был владельцем тысяч душ крепостных крестьян и первым человеком в губернии.
Многие поколения костромичей нашли здесь место последнего упокоения, переступив свой последний рубеж от жизни к смерти. Вот эти богатые и бедные, забытые и безымянные могилы навевали на меня грустные думы и заставляли задумываться над многими вопросами человеческого существования.
Свадьба
Да, действительно, очень плохо испортить себе лето только потому, что не захотелось, как нужно, заниматься зимой. Пришло время готовиться к осеннему экзамену. Мама взяла репетитора, очень серьёзного студента Московского университета Симонова-Врублевского, приехавшего на летние каникулы к родным. Мне очень не хотелось сидеть за задачниками, когда все ребята гуляли и наслаждались подлинным отдыхом. Я рассеянно слушал объяснения репетитора, а сам был мысленно далеко от различных алгебраических уравнений с одним или двумя неизвестными.
Мне не давала покоя ещё одна страсть — это голуби. Ещё при жизни папы мы с Володей осуществили эту общую нашу мечту. В специальной будке во дворе у нас уже была пара “жарых” (красных) ленточных голубей-турманов и две пары белых “чаек”. У каждой пары уже подрастали птенцы, что должно было увеличить голубиное стадо вдвое. Заботы, конечно, было много: надо было три раза в день кормить питомцев подсевом и просом, наполнять поилки чистой водой, чистить голубятню и посыпать пол сухим песком. Необходимо было покупать корм, а пуд подсева стоил 50 копеек. Деньги также доставляли большую заботу. Мама давала их очень скупо. Нам приходилось экономить на всём и всеми путями добывать деньги собственным трудом. Первое время выручал утиль, а потом мы нанялись к маме “в дворники” за 1р.20к. в месяц выметать ежедневно тротуар и двор, а зимой огребать снег. Володе очень не хотелось вставать рано по утрам, и мне почти всегда приходилось это выполнять одному.
Голубеводство настолько заманчивое занятие, что оно увлекает каждого, кто серьёзно возьмётся за это благородное занятие. Я уже в то время осуждал голубятников, которые держали голубей с целью наживы за счёт поимки своей стаей чужих голубей и получения денежного выкупа, а также не признавал приёмы подбрасывания своих “гонных” голубей под чужое стадо с целью увести молодняк. Я не любил лазать по крышам с тряпкой, навязанной на шест, и шугать голубей, вынуждая их к полёту. Меня интересовало наблюдение за жизнью этих благородных птиц, за их повадками, за выведением птенцов, а, главное, меня интересовала их привычка к людям. Они отлично признают своего хозяина, его голос, шаги, постукивание ключей и высказывают своё чувство полётами и сильным хлопаньем крыльев. Этот условный рефлекс прививается, конечно, на основе инстинкта питания. В дальнейшем этого вида спорта я коснусь более подробно, а в тот период это увлечение только начиналось.
Всё это, вместе взятое, отвлекало от скучного занятия математикой, и я с нетерпением ждал, когда кончатся эти ежедневные, нудные для меня, два часа работы с репетитором. И так было ежедневно. А мама и Женя в это время были заняты активной подготовкой к свадьбе, которую намеревались сыграть после сорокового дня смерти папы. Для свадебного стола мама специально откармливала большого индюка и двух индюшек.
В первых числах августа была назначена свадьба. Снова были оповещены все родственники, но никто уже не приезжал, а только присылали поздравления. Дня за два из Кинешмы приехали всей семьёй Соколовские, т.е. родители жениха и две его сестры — Шура и Маруся, которые были приблизительно нашего возраста. Мама была не в настроении, сторонилась новой родни, тайком плакала — ей так не хотелось этого брака, не предвещавшего ничего хорошего для будущего Жени. Невеста же была непривычно весела и всё время находилась в кругу семьи Соколовских, а это ко всему вызывало ещё и ревность у мамы.
Для свадебного поезда заключили договор с лучшим в городе извозчиком-лихачём Берёзкиным, который имел каретный выезд (пара вороных рысаков) и ещё несколько одноконных упряжек в ландо. Я, вместе с другом Фридрихом Ладе, должен был выполнять роль шафера со стороны невесты. Кто были шаферами со стороны жениха, я не помню, но знаю, что были его кинешемские друзья. Невесту одели в белое, шёлковое подвенечное платье с вуалью, украшенной восковым флердоранжем. Мама купила золотые обручальные кольца и венчальные свечи с золотыми украшениями и также с флердоранжем. Шаферам закрепили на груди по бутоньерке из живых цветов. Посаженным отцом Жени был Николай Антонович Василевский. Родители с обеих сторон благословили молодых, и первым выехал в церковь Рождества жених со своими шаферами и родными, а когда лошади вернулись, поехали и мы. На первую лошадь сели шафера, в карету усадили невесту с “почётной дамой” Екатериной Михайловной, Володю, Лизу; на других экипажах разместились ближайшие родственники и знакомые.
С сознанием собственного величия, в белых гимназических кителях и в белых трикотажных перчатках, мы ехали впереди свадебного поезда, держа на руках икону. Нам казалось, что взоры всех проходящих были устремлены только на нас. Нам заранее объяснили наши обязанности, и мы знали, что от кареты мы должны идти за невестой и, по очереди, придерживать шлейф её платья за белую атласную петлю, когда же священник станет надевать венцы, мы обязаны держать один из них над головой невесты. За весь распорядок во время венчания ответственность была поручена Екатерина Михайловне и Ивану Николаевичу.
А в это время дома шла горячая подготовка к встрече “молодых”. Тот же Сидоренко оборудовал приличный стол, мама и другие женщины, оставшиеся дома, подготовили комнату молодых и наводили общий порядок в квартире. Венчание прошло вполне удовлетворительно, не считая разве того, что Фриц во время движения молодых вокруг аналоя, заглядевшись по сторонам, запнулся за ковёр и упал на колени, а я на это тихонько рассмеялся, в остальном же мы со своими обязанностями справились вполне удовлетворительно.
Дома нас встречали с большой пышностью. У входа в зал официанты держали подносы с бокалами шампанского, и когда молодые взяли по бокалу, все закричали “ура”, “горько” и поздравляли их с законным браком. Кто-то посыпал им на головы лепестки шиповника, а под ноги какие-то другие цветы.
Помню некоторое моё разочарование и даже обиду. Я знал, что много лет родители берегли три бутылки отличного заграничного шампанского, которое было намечено распить на Жениной свадьбе. Мне его очень хотелось попробовать. И вот я, стоя за молодыми, жадными глазами смотрел, как опоражнивались бокалы на первом подносе. Я чувствовал, что мне не останется. Так и получилось. На втором же подносе бокалы наполняли уже другим шампанским, которое было доставлено от Сидоренко. Моё огорчение быстро прошло, когда я вошёл в зал и увидел пышный свадебный стол, на котором красовались пирамиды фруктов, масса живых цветов, разнообразные пироги, закуски, вина различных марок, торты и прочие сладости.
Гостей было много, но преобладала молодёжь. Были барышни Василевские, Ладе, а также и подростки нашего возраста. Выпивая и закусывая, продолжали кричать “горько”, пели под граммофон и гитары. Было очень весело. Я же, под шумок, выпил две рюмки коньяку, позахмелел и очень налегал на сдобную кулебяку, отбивные котлеты, ветчину и жареную индюшку. Пировали до поздней ночи. При активном содействии двоюродного братца Ивана Николаевича мне удалось выпить ещё запеканки, какого-то виноградного вина. Я почувствовал себя плохо и ушёл спать.
На другой день я не мог поднять головы и у меня открылась сильная рвота. Это всех ужасно напугало, так как в городе, как и в прошлом году, свирепствовала холера. По совету того же Ивана Николаевича мне налили большой лафитник крепкой перцовки домашнего приготовления на красном стручковом перце, которую считали лучшим профилактическим средством от желудочно-кишечных заболеваний. Приняв это “лекарство”, я проспал ещё часа три, а потом встал совершенно здоровым. Я просто объелся.
Свадебный пир продолжался и на другой день, но уже по-домашнему, без официантов и без всяких условностей свадебного церемониала. Вскоре все разъехались, молодые также решили недели на две съездить в Кинешму, и жизнь нашей семьи постепенно начала входить в свою обычную, будничную колею.
***
Холера свирепствовала не только в городе, но и перекинулась даже в отдалённые уезды Костромской губернии и косила сотни и даже тысячи людей. Снова переполнились больничные бараки с жёлтыми флагами, везде пахло карболкой, можно было видеть следы известкового раствора в местах, где лежал холерный больной. Чаще и чаще мы видели плотно закрытые гробы, засмолённые и пахнущие карболкой.
Мы боялись есть сырые фрукты и овощи даже ошпаривали крутым кипятком. Кто-то сказал маме, что даже нельзя пить чай, и мы пили только какао, как будто бы это была профилактика. Утром, перед обедом и вечером мы все получали от мамы по столовой ложке крепчайшей перцовки, от которой глаза вылезали из орбит и перехватывало дыхание. С плачем всё же мы принимали это лекарство.
Осенний экзамен я выдержал и был переведён в 3-й класс.
Из материальных расчётов мама решила снова переехать во флигель, а большую квартиру выгодно сдать в наём, так как попался богатый квартиросъёмщик, один из одиннадцати сыновей фабриканта Михина. Старик Михин, не надеясь на своих сыновей, перед смертью завещал каждому из них по одному миллиону рублей, которым они могли воспользоваться лишь по достижении сорокалетнего возраста. Этот счастливый день наступил для Ивана Ивановича Михина, который нашёл удобной нашу квартиру для своей побочной семьи, состоящей из матери и двоих сыновей-гимназистов, которые были несколько моложе нас и с нами не подружились. Вместе с квартирой были сданы Михину каретный сарай, все три конюшни и сеновал, так как у него были два рысака и маленькая лошадка пони для детского выезда. В это время Михин достраивал себе дом на Русиной улице и весь нижний этаж снаружи отделал зелёными кафельными плитками. Он стоит и сейчас, под названием “кирпичики”.
К этому времени Маша Бабутина от нас ушла, под предлогом того, что её помощь нужна в деревне, а потом выяснилось, что она была сосватана замуж в деревню Елкотово. На её место к нам пришла её младшая сестра Феня, которая была всего на два года старше меня. Это была русская красавица-подросток, со свежим румяным лицом, несколько курносая, со светло-русыми волосами. Мы приняли её в нашу семью как родную. За одним столом пили и ели, играли в карты и в лото на знаменитой печке и даже играли во все подвижные игры. Иногда и ссорились, а Володя даже вступал с ней в драку. У меня к ней стало проявляться какое-то ещё непонятное для меня чувство особого уважения, связанное с застенчивостью и робостью. Я тайно любовался ею. Мне нравилось в ней всё: лицо, фигура, походка, мелодичный голос, такой же сильный и задорный, как у её матери тёти Матрёны. Я никогда ничего не говорил ей о моем чувстве, но она, видимо, догадывалась, так как у неё проскальзывало кокетство и рисовка передо мной. Мне всегда хотелось сделать ей что-нибудь приятное и сказать что-то такое, что доставило бы ей удовольствие. Так, я совершенно освободил её от ходьбы за покупками мелочных товаров в бакалейную лавку Смирнова Ивана Евграфовича, которая была в белом каменном доме на углу Русиной и Покровской улиц (2).
В этой лавочке мы брали товары на заборную книжку и расплачивались один или два раза в месяц. Я всегда любил ходить туда. Там было всё: гастрономия, кондитерские изделия, мучные товары, масло, керосин и даже табачные изделия, на которые в то время нужен был особый патент. Эта лавочка занимала весь нижний этаж, а квартира хозяина была вверху. Иван Евграфович был человек средних лет, лысый, с небольшими рыжеватыми усами, очень приветливый, услужливый и умел предложить и продать свой товар любому покупателю. Он имел смешную привычку: прежде чем заговорить с покупателем — всегда “шмыгнуть” носом и поддёрнуть под фартуком брюки.
Когда мы были ещё маленькие, то всегда любили ходить туда с мамой в дни расчёта по заборной книжке, так как Иван Евграфович дарил нам по шоколадной конфете или на всех небольшую коробку недорогих конфет. Вот обязанность ходить в эту лавочку я и взял целиком на себя.
Помимо уборки квартиры и помощи маме при стирке белья за Феней осталась ещё одна обязанность, выполнять которую мне было как-то стеснительно. Из экономии, в обычные дни мама не покупала свежих булок, а брала вчерашних. Каждое утро Феня ходила в булочную Заблотского и брала там венскую сдобу, слоёнки, французские булочки, калачи, розанчики, ёжики и прочие вкусные булочки, оставшиеся от вчерашнего дня. Они были почти вдвое дешевле, а если их положить под крышку кипящего самовара, они становились тёплые и очень мягкие. Мы их любили больше, чем свежие, так как выбор был куда больше, чем последних.
Раза два в неделю, к окончанию торговли, она ходила в колбасную Головановых и там брала обрезки колбасы или ветчинные ножки. Этот товар мы также очень любили, так как в обрезках попадались самые дорогие и самые разнообразные кусочки колбас, каких нам не покупали даже к большим праздникам. Обрезки представляли из себя горбушки колбас или кусочки, неправильно срезанные. Они были всегда свежие и стоили всего 10 копеек фунт. За эту же цену шла и ветчинная ножка, которая иногда достигала четырёх фунтов, и от неё мы нарезали чуть ли не половину отличной ветчины, а сырую часть этой ножки употребляли в борщ. У нас была ещё одна возможность получения вкусной гастрономии — это брат Фени, Николай Яковлевич, который служил приказчиком у рыботорговца Скалозубова, о чем я уже упоминал ранее.
Каждую субботу, ещё при жизни папы, Николай Яковлевич приходил навещать своих сестёр и приносил коробочки вкусных консервов, дорогой красной рыбы, семги, кеты и различной икры. За это он получал от мамы один рубль или побольше, в зависимости от количества и качества товара. Каким способом он его брал, мы не интересовались, но он говорил, что хозяин в субботу каждому рабочему разрешал брать товар в небольшом количестве, что могло быть правдоподобно. Жаль, что он вскоре был взят на действительную военную службу во флот и отправлен в Кронштадт.
На базар мама ходила всегда сама, иногда брала с собой прислугу, если приходилось нести много продуктов. Это бывало не чаще трёх раз в неделю.
Долгие, тёмные осенние и зимние вечера мы почти всегда коротали дома. Придя из гимназии и пообедав, мы садились за подготовку домашних уроков, на что у меня уходило не менее двух часов, тогда как Володя с тем же заданием справлялся за полчаса; у него были выдающиеся способности и отличная память. Лиза к тому времени начала обучаться в образцовой начальной школе при женской учительской семинарии. Эта школа временно находилась на Русиной улице в небольшом одноэтажном деревянном доме, на месте которого в настоящее время находится кинотеатр “Дружба”. Мама вечерами что-нибудь шила или ушивала старое, вязала тёплые рукавички или носки и в это время очень любила, чтобы кто-нибудь из нас читал вслух. Она любила слушать сочинения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, предпочитая прозу поэзии. Некоторые произведения, как “Борис Годунов”, “Русалка”, “Повести Белкина” Пушкина, “Герой нашего времени” Лермонтова, “Русские женщины” и “Мороз, Красный нос” Некрасова, просила читать по несколько раз, так что они запоминались на всю жизнь. Большой интерес проявляла мама и к приключенческим рассказам о похождениях сыщика Шерлока Холмса, Ната Пинкертона и др.
Феня вечерами тоже была свободна и всегда слушала чтение. Ещё в деревне она окончила начальную школу, любила сама читать детские книжки и постоянно прислушивалась к нашим разговорам при подготовке домашних заданий. Ей очень нравился немецкий язык. Имея приличную память, она быстро выучила несколько фраз на этом языке и даже один стишок-загадку.
(…)
В описываемый мною период (конец первого десятилетия ХХ века) за прошедшие десять лет произошли большие изменения в нашей семье, а также семьях родных и знакомых.
Прежде всего, смерть папы и замужество Жени сильно покачнули мамино здоровье. Из полной цветущей женщины она стала медленно превращаться в пожилую; лицо теряло свежесть и стало украшаться морщинками, угасла подвижность и жизнерадостность. Самое же главное — стало сдавать сердце. По ночам случались сердечные припадки, и врачи нашли у нее приобретенный декомпенсированный порок сердца. Она начала регулярно лечиться. Я же был всегда начеку и во время сердечного приступа давал необходимые лекарства и клал холодную тряпку на сердечную область.
Женя устроилась на работу статистиком в пчеловодческий отдел губернской земской управы, а её муж Дмитрий Михайлович жил в Кинешме, занимался репортёрской работой и очень часто приезжал в Кострому. Иван Николаевич из-за неравнодушия к спиртным напиткам не удержался на работе в уездной больнице, и ему пришлось со всей семьёй уехать в Грязовец, где он работал ранее и зарекомендовал себя с хорошей стороны. Но он часто навещал Кострому и нашу семью.
Большие изменения за этот период произошли в семье Василевских. Тамара вскоре после замужества Жени вышла замуж за офицера, поручика Гарундова, и уехала к месту его службы в Хабаровск. Клеопатра окончила институт и уехала учительницей иностранных языков в Бендеры. Борис в чине поручика служил в артиллерийской бригаде в Бобруйске. Вячеслав учился в Ярославском кадетском корпусе. Лидия и Ариадна продолжали учиться в Тамбовском институте благородных девиц. Таким образом, родители Василевские в зимнее время были одиноки. Екатерина Михайловна любила посещать своих знакомых и, в первую очередь, маму. Если один, два дня она не забежит на Ивановскую, то мама спешит на Ново-Троицкую.
Николай Антонович не любил ходить в гости, но у себя принимал очень радушно. Он не знал рельефного шрифта Брайля для слепых, а поэтому самостоятельно читать не мог и очень любил, когда кто-нибудь ему читал. Екатерина Михайловна успевала прочитать ему только газеты “Русское слово”, “Поволжский вестник” и какие-то ведомости, где публиковались производство в чины, перемещения по должности военного и гражданского ведомств, выход на пенсию и прочее. Художественную литературу систематически читал ему учащийся химико-технического училища им. Чижова Пётр Карлович Веска. Он был сыном рабочего, происходившего из прибалтийских губерний. Семья у него была очень большая, и Василевские приняли над ним как бы шефство. Он постоянно жил у них на полном иждивении. Они считали его своим приёмным сыном. Это был очень скромный юноша, лет шестнадцати, дипломатично ухаживал за всеми дочерьми Василевского и много помогал по хозяйству Екатерине Михайловне. Часто читал Николаю Антоновичу и я, приходя к нему специально по воскресеньям или в каникулы.
В семье Ладе также произошли некоторые изменения. Елизавета, или, как её звали в семье, Лиля, вышла замуж за молодого чиновника Черногубова, жила в Костроме, но на отдельной квартире. Амалия, окончив городское училище, поступила в третий класс Смольяниновской гимназии. Это была смуглая “кубышка” с крупными чёрными глазами и постоянной улыбкой на довольно привлекательном лице. Она нравилась мне больше всех сестёр, и мне всегда было приятно играть с ней и посидеть где-нибудь с глазу на глаз. Родители шутя говорили, что это подрастает жена для Леонида, но, как потом узнаем, их предсказание не сбылось. Это юношеское увлечение со временем прошло, и наши дороги разошлись навсегда. Весной умерла от воспаления лёгких предпоследняя дочь Соня, в возрасте семи лет. Это горе свалилось на головы семьи Ладе совершенно неожиданно. Здоровую, весёлую девочку смерть скосила на третий день болезни.(…)
Не могу не упомянуть и о Моргенфельдах, так как мы были очень дружны с этой семьёй. В ней также произошло неожиданное несчастье. Казалось бы, ничего не могло нарушить годами установленный с немецкой пунктуальностью порядок этой, претендующей на интеллигентность, семьи, а всё произошло совершенно нежданно. Как-то, ранней весной, младшая восемнадцатилетняя сестра Карлуши Анюта, поскользнувшись на льду, упала затылком и, не приходя в сознание, через несколько дней скончалась. Горе в семье Моргенфельдов было неописуемое. Анюта была любимицей не только родных, но и всего нашего дома. Она только что вступила в жизнь и начала самостоятельно преподавать музыку на дому, имея несколько своих учеников и собственное пианино, как и у старших сестёр, Розалии и Августы.
***(…)
1910 год дал нам, детям-подросткам, много впечатлений, обогатив наш ум жизненным опытом и практическим знакомством с родной русской природой. Ещё зимою мы уговорили маму на летнее время снять дачу где-нибудь в красивом сельском уголке, с обязательным условием, чтобы это место было не так далеко от города и вблизости реки и обязательно большого леса.
При активном содействии Бабутиных, в особенности тёти Матрёны, нам удалось снять хорошенький дачный домик в деревне Шувалово Гридинской волости Костромского уезда, вблизи усадьбы Караваево, на реке Сендеге по Кинешемскому тракту. Этот дом мы сняли у крестьянина Амберова Алексея Ивановича за 25 рублей в лето и с отельной оплатой по одному рублю за поездку на его лошади в город Кострому за продуктами один раз в неделю. Предоставленное нам помещение являлось “чистой избой”, выходящей своими окнами на проезжую часть улицы и состояло оно из двух небольших комнат и довольно хорошенькой светёлки. Мама, Женя и Лиза устроились внизу, а мы с Володей — в светёлке. К дому примыкала небольшая крытая терраса, где мы пили чай и проводили все пищевые процедуры.
Хозяева жили в задней, зимней, половине дома. Детей было трое: дочь Аннушка, 20 лет; дочь Паня, 14 лет, и маленький Митя, 2-х лет, которого за его сильно кривые ноги все в деревне звали “Митя-колесо”. Лет через сорок я встретил его в звании капитана. Он занимал должность пом. нач. хозчасти тюрьмы. Ноги его были вполне нормальны.
Амберовы принадлежали к крепким середнякам. У них были две рабочих лошади, две коровы, телята, штук десять овец с ягнятами, а также много кур, гусей и уток. Работали в поле все четверо, но кто-нибудь один из них оставался дома для ухода за скотиной, за ребёнком и для приготовления пищи. Чаще всего, конечно, оставалась мать.
Для нас, горожан, всё было ново, интересно и вовсе не похоже на городскую жизнь. (…) Мне доходил уже тринадцатый год, а Володе было одиннадцать. Нас в это время весьма интересовала природа, и мы учились ценить красоту деревенского пейзажа.
Деревня Шувалово находилась в 8-ми верстах от города. Не доезжая до деревни Семёнково и реки Сендеги, мы с Кинешемского тракта сворачивали влево на караваевский посёлок и от деревни Никулино попадали прямо к своему дачному дому, стоявшему у самого края деревни. В деревне Шувалово в то время была всего одна улица на два порядка домов, а всего домов было не более 30-35. Среди деревни был небольшой пруд, на поверхности которого плавали белоснежные и серые гуси и утки. Вода из пруда шла для скотины, и в нём полоскали бельё. Воду же для питья и приготовления пищи брали из двух чистых колодцев.

В двух верстах от Шувалова находилась барская усадьба Караваево, принадлежавшая помещице-генеральше Усовой. Эта усадьба славилась большим стадом рогатого скота швицкой породы, послужившего впоследствии основой для знаменитой костромской породы. Кроме того, усадьба отличалась громадными сторожевыми собаками и хамским обращением с крестьянами барских холуев, в лице управляющего и приказчиков. Как ни плохо было отношение администрации к крестьянам, последние вынуждены были идти в усадьбу на подработку, так как собственные земельные участки не всех прокармливали. Большая часть ближних лесов принадлежала помещице, и туда даже боялись ходить за грибами и ягодами. Пойманных в лесу крестьянских детей пороли, а взрослых штрафовали за потраву.
Несколько слов о караваевском быке. Даже взрослые мужчины опасались встречи в лесу с караваевским стадом, так как огромный тёмно-бурый бык Урал бросался на людей и, по рассказам крестьян, не одного человека поднял на свои могучие рога.
Уезжая из города, мы захватили с собой маленькую голубятню с четырьмя парами лучших голубей, а уход за остальными поручили Карлуше Моргенфельду, который кормил и ухаживал за ними целое лето. Для него это составляло большое удовольствие.
Учебные занятия в гимназии заканчивались около 20 мая по старому стилю. Я получил переэкзаменовки по математике и немецкому языку, а потому учителя посоветовали маме оставить меня на второй год в третьем классе, и я с лёгким сердцем настроился спокойно гулять всё лето. Володя же успешно перешёл в 3-й класс. Женя готовилась стать матерью, а потому, стесняясь своей фигуры, с радостью уединилась в деревню. Её муж в то время проживал в Кинешме, помогая отцу по сапожному делу и писал “раешники” и корреспонденции в костромскую газету “Поволжский вестник”.
Первая неделя жизни в деревне прошла для нас в наблюдении окружающей обстановки, в знакомстве с деревенскими сверстниками и в изучении их интересов. Конечно, не обходилось и без хвастовства с нашей стороны в рассказах о городской жизни, в частности, в рассказах о гимназии. Правда, большинство наших сверстников неоднократно бывали в городе, и для них общая картина городской действительности была известна не хуже нас, но зато их жизнь для нас была вовсе неизвестна и являлась большой загадкой. Мы, мысля конкретно, вовсе не задумывались о материальной необеспеченности и бесправности крестьян, а видели их жизнь поверхностно, такой идиллической, какой она представлялась нашему детскому воображению. Нам в то время казалось вполне естественным, что крестьянские дети плохо одеты, постоянно ходят босые и что с самых ранних лет они включены родителями в регулярный труд по нянчанью младших братьев и сестрёнок, по уходу за животными и домашней птицей и оказывают посильную помощь семье в полевых работах. В будничные дни редко можно было видеть деревенских подростков без дела — каждый из них получал от родителей трудовое задание на предстоящий день.
Нам, отдыхающим на лоне сельской природы “барчукам”, очень хотелось теснее сдружиться с крестьянскими ребятишками. Они же робко и недоверчиво относились к дружбе с “городскими”. Вздорный и вспыльчивый характер Володи с первых же дней знакомства с деревенской детворой привёл к ссоре и к “сражениям” палками и камнями, иногда переходящим в рукопашные схватки. В этих случаях победа всегда оставалась на стороне крестьянских ребят, которые были физически много сильнее и ловчее городских “выкормков”. Рукопашные схватки, через спортивную борьбу, быстро привели к тесной дружбе, начавшейся с поездок в “ночное”. После пригона стада, с наступлением вечера, все деревенские мальчишки отводили на пастьбу лошадей в ночное. Для этого на шею каждой лошади навязывался колокольчик-“глухарь” или одевался “ожерелок” с бубенцами. Ребята брали с собой тёплые фуфайки и верёвки-“путлища”. Все садились верхом на своих лошадей и с криком и смехом скакали вдоль деревни в луга к реке Сендеге.
Нас неудержимо влекло принять вместе с ребятами участие в этих прогулках. Поскольку у хозяев не было мальчиков-подростков, то свою пару меринов водила в ночное Паня. Мы уговорили её разрешить на одной из лошадей прокатиться кому-нибудь из нас. Первая же попытка Володи проехать на низеньком Карьке тут же печально кончилась — он через минуту оказался в дорожной пыли. То же случилось и со мной. Я выбрал высокого Воронка и летел на землю с большой высоты. Ведь нам никогда не приходилось даже просто сидеть верхом на лошади, тем более на неоседланной.
Настойчивое желание научиться скакать верхом, не отставая от крестьянских ребят, привело к тому, что мы, в синяках и шишках, превозмогая боль в ногах и от ушибов в тех местах тела, которыми мы сидели на лошадях, добились умения, держась за гривы, удерживаться на конской спине. За лето мы привыкли к лошадям, изучили их повадки, и вот в это время у меня возникло желание по окончании гимназии идти учиться в кавалерийское военное училище и посвятить свою жизнь кавалерийской службе.
Конечно, не каждую ночь мы проводили в лугах, а уж в неделю раз обязательно сидели у костра, спали, покрывшись фуфайками, пахнувшими грязью, человеческим и лошадиным потом, слушали страшные рассказы мальчишек о нападении на табун лошадей волков, о разбойниках, о конокрадах-цыганах. Эти рассказы слышали они от отцов и дедов, а от матерей и бабушек их воображение было возбуждено сказками об оборотнях, ведьмах, леших, водяных, колдунах. При умелом пересказе, в обстановке тихой летней ночи, при всплесках рыбы на гладкой поверхности заводи, при кваканьи лягушек и криках ночных птиц, все эти сказки сильно действовали на детское воображение и невольно вызывали какой-то невольный страх смотреть по сторонам, оставляли желание всё время смотреть на огонь костра, а не в темноту лесной опушки.
Особенно крепко засыпалось под утро, когда над тихой заводью Сендеги начинал подыматься седоватый туман, набежавший лёгкий воздух вызывал приятную дрожь, а на восточной стороне неба появлялась светло-розовая полоса предутренней зари. Спать было уже некогда, приходило время гнать табун в деревню. Мы нехотя подходили к своим лошадям, снимали с них пута, накидывали им на спины фуфайки, подсаживали друг друга и без особого шума возвращались в деревню. Оставив лошадей у дворов, мы все шли в свои сенные сараи, стоящие на гумнах за каждой избой, и спали на сене ещё часа три-четыре. В хорошую тёплую погоду мы редко спали в своей светёлке, а всегда предпочитали сенной сарай, где спали всей семьёй и хозяева.
Днями мы первое время занимались голубями: в вязках выпускали их на приполок и на крышу скотного двора. Не обошлось без неприятностей — как-то утром на глазах у всех, на бреющем полёте большой ястреб-тетеревятник выхватил из кучки самого лучшего, палевого, хохлатого голубя и, не дав нам опомниться и прижав его своими острыми когтями к груди, скрылся в ближайшем лесу. Мы с криком бежали за летящим хищником, но всё было бесполезно. Горе наше было неописуемо, тем более, что у этой пары на днях должны были вывестись птенцы, а голубка в горе выбросила гнездо, и, таким образом, мы сразу лишились трёх ценных голубей.
Близко соприкоснувшись с природой, в это лето мы познали очень многое из жизни животного и растительного мира. В светёлке у нас стихийно образовалось подобие живого уголка. Весь потолок мы опутали гирляндами плауна, в щели стен повтыкали ветки берёзы, можжевельника, папоротника и прочих растений. На столе и на подоконнике всегда были букеты свежих лесных и полевых цветов, смотря по сезону: черёмухи, ландышей, сирени, лесных фиалок, иван-чая и прочих. Мы ловили светлячков, всевозможных жуков, бабочек, личинок и выпускали их прямо в светёлке. На столе и подоконнике у нас стояли большие стеклянные банки из-под варенья, в которых были устроены аквариумы и террариумы. В аквариумах у нас плавали мелкие рыбки, тритоны, жуки-плаунцы и прочие водяные жители, а в террариумах появлялись различные лягушки, ящерицы и даже в отдельной банке находились уж и гадюка. Всю эту живность мы кормили различными насекомыми, а больше всего мухами, которых кругом было более чем достаточно, так как рядом с домом стоял скотный двор.
Попадали к нам ящерицы, которые в наших банках даже размножались. Тут мы на практике убедились, что один вид ящериц, так называемых “живородок”, размножается живыми ящерками, а другие откладывают белые яички в мягкой оболочке, из которых через несколько часов появлялись детёныши. Мы увидели на скотном дворе в навозе яйца ужа, взяли их домой, но они быстро высохли, а вот самка гадюки родила несколько штук живых детёнышей, из которых двоих тут же съела. Мы её отсадили в бутылку, но остальные две гадючки у нас убежали. Это случилось во время ночной грозы и урагана — сильным ветром открыло окно нашей светёлки и сшибло на пол все наши аквариумы и террариумы. Стеклянные банки разбились, а животина разбежалась. После этого случая много дней и ночей мама и сёстры боялись укуса змей, но, конечно, ни одно живое существо не осталось в доме, а все они быстро ушли в родную стихию. Взамен разбитых банок маме пришлось покупать новые, так как приближалось время варки варенья.
Чтобы оправдались дачные расходы, на семейном совете мы решили за дачный период наварить варенья и заготовить грибов на целый год. Как только стали появляться ягоды, мы всей семьёй начали ходить в ближайшие леса собирать землянику, чернику, гонобобель и другие ягоды. Их досыта ели с молоком и сахарным песком, пекли пироги, сушили и варили варенье. Когда же появились грибы, мы почти не выходили из леса. Особенно много было грибов в так называемом бору, но ходить туда без знающих людей было опасно: во-первых, можно было легко заблудиться, а, во-вторых, в глубине бора была замаскированная растительностью коварная трясина, попав в которую, трудно было спастись — она медленно засасывала не только случайно попавший в неё скот, но и неосторожных людей. Много страшного, с дополнениями фантастики и мистики рассказывалось деревенскими женщинами и подростками об этом боре и трясине, что невольно вселяло в нас какой-то страх — поодиночке мы туда никогда не ходили.
Всё же без происшествий у нас не обошлось. Постараюсь описать, как умею, некоторые из них. В тот год во всех лесах было очень много всяких грибов и малины, но больше всего белых и боровиков (подосиновиков) было в знаменитом бору. Мы рано утром, взяв несколько бельевых корзин, всем семейством отправились за грибами. С нами ходили деревенские девочки-подростки. Они-то и научили нас распознавать грибы. Правда, мама отлично знала грибы, но она редко ходила с нами по лесам, так как хозяйственные заботы почти целиком ложились на её плечи, да и долго бродить по лесам из-за своей тучности и сердечной болезни она не могла.
И вот как-то, увлекшись сбором ягод среди большого малинника, мы нос к носу столкнулись с двумя медведями, которые, также увлекшись этим занятием, не учуяли нас и подпустили на несколько шагов, должно быть, ветер был в нашу сторону.
Когда же мы встретились глазами, то инстинктивно разбежались в разные стороны, и трудно сказать, кто напугался больше: мы или медведи. Во всяком случае, по пути нашего марафонского бега мы растеряли весь малиновый сбор и потом никогда не ходили больше в этом направлении.
В другой раз, собирая грибы, мы очень близко подошли к караваевскому стаду. Нас завидел Урал. Нагнув к земле голову и приняв воинственную позу, он медленно направился в нашу сторону, издавая угрожающие звуки. Ближе всего к быку оказались я и один мальчик из деревни Никулино. Мы, побросав корзины с грибами, пустились бежать, но бык уже догонял нас. Тогда нам ничего не оставалось, как влезть на ближайшую берёзу. Бык, подбежав к дереву, несколько раз, с разбега бодал ствол своим могучим лбом с толстыми рогами, пытаясь сшибить нас с дерева. Мы лезли выше. Бык, упёршись рогами в землю и копая от злобы землю ногами, издавал яростные звуки, далеко не похожие на мычание, и пытался с новой энергией броситься в атаку, но в это время пастух, осторожно подкравшись, схватил его за железное кольцо, проколотое между ноздрями, и спокойно отвёл к стаду. Каждый бык становится спокойнее самого безобидного животного, когда его берут за кольцо. Мы, подобрав свои корзины, пустились бежать, наказав себе никогда не встречаться с любым стадом, где есть быки. С тех пор до самой старости я очень боюсь быков и всегда избегаю встречи с ними на близком расстоянии.
Был ещё такой случай с нами в этом труднопроходимом бору: однажды мы, все четверо, собирая грибы, не заметили приближения грозы. Когда же поднялся ураганный ветер и зловеще зашумели деревья, сгибая свои нарядные вершины, было уже поздно возвращаться домой, и мы решили укрыться от дождя за корнями выкорчеванной ранее бурей огромной сосны. Присев в образовавшуюся после корней естественную яму, мы под себя подложили хвойный лапник и сверху прикрылись такими же ветками. Вначале всё казалось нам очень поэтичным, но гроза продолжалась около двух часов. Темноту леса резко освещали молнии, гром гулким эхом прокатывался по всему лесу, дождь лил сплошной водяной струёй, ураганный ветер вокруг ямы ломал и ронял старые сосны. Нам становилось жутко, мы промокли, озябли, а главное, очень оголодали. У нас с собой не было ни карманных часов, ни компаса. Мы потеряли ориентировку. Гроза стала утихать. Из-за туч и деревьев не было видно солнышка, и мы решили идти наугад, так как даже Женя не знала примет, по которым можно было бы ориентироваться в лесу. Мы шли долго, устали, промокли до нитки, теряли силы, а лес был бесконечен. Нам не попадалось ни одной просеки, ни одного намёка на близость жилья. Лиза плакала, Женя нервничала, Володя кричал и пытался обвинять всех, кроме себя. Только я со своим стоическим спокойствием молча шёл вперёд, зная, что когда-нибудь это кончится.
Совершенно неожиданно мы повстречали шуваловского мужика-грибовика, по кличке Микула Селянинович. Как было его настоящее имя, никто не знал. Самый плохой, покосившийся дом, под дырявой соломенной крышей, принадлежал ему. Этот дом стоял за прудом, и вокруг него не было никаких хозяйственных построек. Микула Селянинович был безлошадный бедняк, имел молодую, но весьма флегматичную и ленивую жену и троих маленьких детей. Старшая десятилетняя дочка Мотя была замечательно красивая девочка, весёлая, словоохотливая и умненькая. Она любила труд и была очень услужливая. Мама и Женя оценили эти её качества. Она помогала нам по хозяйству, примывалась и полоскала бельё на Сендеге. За это мама кормила её, угощала сластями и как-то на Девятой ярмарке купила ей красивого красного материала на платье.
Микула Селянинови был здоровенный мужчина, лет 32-34, с окладистой тёмно-русой нечесаной бородой, но с довольно привлекательным лицом, весёлым нравом, природным юмором и недюжинными способностями. Он служил лесником, имел плохонькое ружьишко, неказистую собачонку и кое-какие охотничьи доспехи. Не занимаясь крестьянским трудом, он все дни проводил в лесу и только вечером приходил домой, садился на завалинку, плёл корзины или рыболовные снасти, курил махорку. Никогда не унывающий балагур, он знал много забавных рассказов из своей бродячей жизни, анекдотов и всевозможных побасенок; у него даже была гармошка двухрядка, и он иногда выходил с ней на улицу, но играл довольно плохо. Больше всего нам нравился его охотничий медный рожок. По вечерам мы, деревенские ребятишки, и даже мужчины любили посидеть у его избы и послушать новости, которые у Микулы Селяниновича всегда были в большом ассортименте.
Вот он-то и попался нам навстречу. Он с улыбкой сказал, что мы идём в противоположную сторону и отошли от Шувалова более чем на восемь вёрст. Так как он шёл домой, мы с удовольствием присоединились к нему и, слушая его бесконечные рассказы, забыли усталость и голод и даже не заметили как пришли домой, а был уже вечер, мама очень волновалась за нас и уже подумывала организовать поиски. Всё кончилось благополучно, и, обильно утолив волчий голод, мы снова были готовы играть и веселиться.
Большое удовольствие нам доставляла ловля рыбы на реке Сендеге, в верхнем омуте, у мельницы. Правда, мы очень боялись старика-мельника Кирсана, про которого говорили, что он колдун и дружит с водяным, живущим в этом омуте, а также знает, где водятся русалки, которых он будто бы показывал Микуле Селяниновичу. Кирсан был высокого роста, с большой седой бородой, худощавый и очень суровый на вид. Нам он напоминал мельника из оперы “Русалка”. Мы ходили на омут только днём, а потому уловом похвастаться никогда не могли. Нам попадались пескари, мелкие окуньки и сорожка; между тем, в омуте водились щуки, карпы, налимы и даже сомы.
Как-то к нам на дачу забежал из города Иван Николаевич Колгушкин. На почве возлияния Бахусу, он быстро сдружился с Микулой Селяниновичем, и в ночь они решили половить в омуте раков. Где-то достали железных обручей, оплели их тонкой бечёвкой в виде решётки и, положив в центр каждого обруча по кусочку падали, на верёвках спустили их в разные места омута. Охота на раков оказалась неудачной. Иван Николаевич принёс всего одного рака, которого мы и устроили в наш живой уголок. Через несколько дней Кирсан поведал маме, что у этих друзей на омуте была весьма знатная гулянка. Они пили, пели, курили и рассказывали друг другу смешные истории. (Кирсан, как старовер, не пил и не курил). После всего, на утро, задумали купаться и чуть не утонули. Кирсану пришлось оказывать им помощь.
Нам очень нравились воскресные дни и праздники. Утром женщины и дети, одевшись по-праздничному, шли к обедне в село Николо-Трестино, а вечером молодёжь и подростки деревень Шувалова и Никулина собирались на лужайке между деревнями, пели песни под гармошки, водили хороводы, устраивали коллективные пляски, а потом гурьбой ходили вдоль деревни и по прогонам с пеньем частушек и прочими развлечениями. Гармошки не умолкали до утра. Мы же, младшие подростки, образовывали свою компанию: играли в горелки, водили хороводы и организовывали коллективные игры, причём обязательно с поцелуями. Сильными, мелодичными голосами отличались Паня и Мотя, хотя последняя была моложе всех, но уже в то время подавала большие надежды.
Мне же нравилась Паня, хотя ничем она не выделялась. Беловатая, худенькая, с обычным русским лицом, она привлекала к себе как формирующаяся девушка, как нераспустившийся бутон. Во мне, видимо, начинало просыпаться влечение к противоположному полу. Я ей тоже нравился своей скромностью и корректным обращением, несвойственным деревенским “ухажёрам”. В праздничные вечера мы иногда отделялись от общей компании, играли вдвоём, шутили, даже боролись. Нам обоим было приятно прикасаться друг к другу. У нас зарождалось чувство, похожее на юношескую любовь.
В прогулках по лесам и лугам, во всевозможных увеселениях незаметно прошло лето. Пришла пора выезжать в город. Были наняты три подводы. На две первые погрузили домашние вещи, голубятню, посуду, а главное — лесные трофеи в виде двух кадок соленья, банки с вареньем, связки сухих грибов и даже нескольких пар берёзовых веников и пучок можжевельника для запаривания кадок. На последней подводе разместились мы вчетвером, так как мама уехала в город накануне, с тем чтобы приготовиться к нашей встрече. Провожать нас вышли хозяева, соседи, ребятишки. Всем было жалко расставаться. Девочки плакали, мы обещали приехать на следующее лето, но обстоятельства сложились так, что мы расстались с Шуваловом навсегда и больше никогда никого не видели и долгое время ни о ком не имели никаких сведений.
Совсем недавно, через Бабутиных, я узнал, что наши дачные хозяева Амберовы умерли в начале революции, а раньше всех умерла их старшая дочь Аннушка. В год нашего пребывания на даче её выдали замуж, в германскую войну 1914-1917 гг. мужа у неё убили, а вскоре умерла и она. До последних лет Паня была жива, она была тётей Павлой, а потом бабушкой Павлой Алексеевной, которая нянчилась с многочисленными внучатами. Последнее время она проживала в Николо-Трестине. Интересно было бы узнать, как прожила свою жизнь Мотя. Думается, что красота и веселый, беспечный характер в совокупности с вопиющей бедностью толкнули её на скользкий жизненный путь. Расцвет её жизни прошёл при капитализме и НЭПе.
Впоследствии, лет через 12, по делам службы мне пришлось проезжать через деревню Шувалово. Я не нашёл старых строений, после пожара были выстроены новые избы и планировка деревни сильно изменилась. Из знакомых людей я не нашёл никого, так как была пережита первая германская война, две революции, голод и Гражданская война.
“Одних уж нет, а те далече…”
(…)
В середине августа начался учебный год и мы пошли в гимназию, а Лиза — в образцовую школу при женской учительской семинарии. Меня классный наставник Дмитрий Сергеевич посадил на предпоследнюю парту, с моим другом Ваней Смирновым, также оставшимся на второй год. Володя сидел в том же ряду, но на второй парте, с одним из лучших учеников — Свирским. Как стыдно было сознавать, что ты слабее других. Очень оскорблял взгляд на нас со стороны лучших учеников класса. Такие антагонистические отношения между второгодниками и коренными учениками класса оставались довольно долго. Нас, второгодников, оказалось в классе шесть человек, и мы никак не давали себя в обиду, тем более, почти все мы обладали недюжинной физической силой. Человек быстро привыкает к любой обстановке, и я сравнительно легко освоился в классе и смирился со своим печальным положением.
В сентябре месяце у Жени родился сын, которого назвали Виктором. Для нас это было большое развлечение, тем более что нам давно не приходилось видеть новорождённых детей. Мальчик был очень здоровый, но через три недели неожиданно чем-то заболел и дня через три умер. В нашей семейной ограде на Лазаревском кладбище выросла четвёртая могила под маленьким железным крестом. Первое время мы все очень жалели мальчика, но, как это всегда бывает, вскоре забылся и этот мимолётный эпизод в нашей семье — его заслонили новые впечатления.
Ожидался приход в Кострому из “Царства Польского” пехотного полка. Ещё с весны квартиры снимались в городе, и, на радость домовладельцев, вовсе не торговались в цене. У нас пустовала верхняя левая квартира, которую и сняли для семьи капитана Даманского Вацлава-Марцелия Александровича. Всё лето квартира пустовала, хотя и была оплачена, так как офицер с семьёй жил в лагерях.
Мы с нетерпением ожидали прихода в Кострому “настоящего” войска, так как после революции 1905 года в Костромской губернии стояли два резервных батальона: Солигаличский и Красненский, которые были расквартированы по уездам и несли исключительно караульную службу. Нам почти не удавалось видеть офицеров и солдат, кроме разве жандармских или из конвойной команды; скучали и костромские барышни. Мы знали, что в Костроме будет 183-й пехотный Пултусский полк. Наконец наступил долгожданный день. Во двор въехали двухконные тёмно-зелёные фурманки, в дышловой упряжке, гружённые квартирной обстановкой. Для чистки от дорожной пыли всё было расставлено во дворе. Сопровождали имущество несколько солдат в фуражках-бескозырках, с белым околышем, и с синими погонами на гимнастёрках. Следом за вещами приехала супруга офицера Ванда Титовна с четырёхлетним сыном Чеславом, страдающим полным идиотизмом. При нём неотлучно находился денщик-нянька Бронислав Ендриховский.
К вечеру приехал и сам командир роты, капитан Даманский. Это был мужчина средних лет, ниже среднего роста, худощавый, смуглолицый, с тёмной с проседью бородой, постриженной клином. Говорил он с заметным польским акцентом.
Эти культурные люди очень быстро сдружились с нашей семьёй. Ванда Титовна была очень милая женщина, в возрасте за 30 лет, худощавая, с некрасивым, но довольно симпатичным лицом и прекрасным, мягким характером. Она очень любила сидеть во дворе за столиком около ворот и беседовать с мамой по всем житейским вопросам. Она крайне была удручена тяжким заболеванием своего единственного Чесё, как родители называли своего сына. Это был очень симпатичный мальчик, с крупными, но совершенно бессмысленными большими чёрными глазами на мраморно-белом лице. По причине полного идиотизма, вследствие перенесённого менингита, он не был способен к каким-либо самостоятельным действиям, даже по самообслуживанию. Иногда его личико оживлялось детской улыбкой, но тяжёлый недуг всегда был виден на окаменелом лице. Он не умел говорить, а только мычал, при выражении любой эмоции издавал звуки, напоминающие звук “ы”. Он часто плакал и раздражался. Бронислав же был отличной нянькой, в любой момент мог его успокоить и развеселить и никогда не оставлял его без своего надзора.
Командир роты Вацлав Александрович имел и второго денщика, который выполнял обязанности эконома, повара, горничной и даже прачки. Это был наш земляк, костромич, Смирнов Фёдор Иванович. Мы, подростки, как-то быстро сдружились с этими славными солдатами. Их дружба была для нас первым жизненным университетом. Они знакомили нас с жизнью царской казармы, от них мы узнавали биографии и характеры всех офицеров этого полка. Благодаря рассказам о военной жизни, у нас обоих зародилось и ещё больше закрепилось желание получить офицерское звание, а наши друзья, Карлуша Моргенфельд и Фридрих Ладе, только и мечтали об этом.
От дружбы с денщиками было и отрицательное влияние на наше юношеское воображение. Через их рассказы мы неприкрыто знакомились с взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, со всевозможными пороками, развратом, половыми извращениями и венерическими болезнями. Особенно сведущ во всех этих вопросах был Бронислав, который до военной службы работал в ресторанах и гостиницах Варшавы. Федя Смирнов был более простоватый парень и хорошо знал жизнь пригородной деревни, вроде его родных Калинок, а также жизнь отходников-плотников, с артелью которых он дальше Костромы не бывал.
Оба парня были холостые и в выходные, праздничные дни успешно ухаживали по вечерам за молоденькими горничными и нянями, которых в нашем дворе и в соседних домах было более чем достаточно. Большим успехом у девиц пользовался опытный и галантный ухажёр Бронислав, а менее ловкий и стеснительный Федя был много скромнее, а в конце военной службы нашёл всё-таки себе подругу жизни, такую же, как и он, скромную девушку из прислуг, с которой и прожил всю жизнь в собственном доме на Тихой улице. Он умер в конце пятидесятых годов от рака желудка.
Бронислав оставил о себе хорошую память в нашем дворе: в 1911-1912 годах, гуляя с Чесиком, он около забора губернаторского сада выкопал три маленьких дубочка и, вместе со мной, посадил около флигеля. Два из них живы и по настоящее время, затемняя своими могучими ветвями свет в окнах флигеля. Дубки живы, но Бронислава, наверное, уже нет в живых. Он демобилизовался в 1912 году и уехал в Варшаву. С его пылким темпераментом трудно было уцелеть во время первой германской войны и революций.
Денщики у Даманского менялись, но с другими мы дружили как-то меньше, и они в моей памяти оставили меньший след, чем эти двое славных парней. Я помню Франтишека и Федю Низова, припоминаю и других, с которыми мы играли в лапту, крокет, городки, но уж такой тесной дружбы с ними не было.
В эти годы мы с Володей очень серьёзно занялись голубеводством. На чердаке сарая отгородили большое помещение для голубятни, с выходом в слуховое окно. Эта голубятня, рассчитанная на помещение до 150 штук голубей, была оборудована по всем требованиям голубеводства. Задняя стена представляла из себя сплошные ряды гнёзд с узкими приполками и круглыми лазами. Гнёзд в стене было сделано сорок, остальные устроены на противоположной стене, под навесом крыши. Каждая пара голубей знала только своё гнездо.
В зиму мы оставляли не более 25-30 пар, так как большое количество голубей прокормить нам было не под силу. Мама давала денег на корм очень скупо, а доходов от голубей зимой у нас не было. Летом мы продавали молодняк. Брали выкупы за приставших к нашим голубям чужих, обменивались своими дорогими голубями, получая денежную придачу, и т.д. Зимой эта коммерция отпадала. Мы экономили на карандашах, тетрадках, школьных завтраках и, кроме того, как я писал ранее, имели постоянный заработок в размере 1р. 20к. в месяц за очистку от снега и посыпку тротуара и за расчистку тропок во дворе. Эта работа почти целиком падала на меня, так как Володя умел найти причину не вставать рано утром, а по “обязательному постановлению” тротуары и дворы должны быть очищены от снега и посыпаны песком до 7 часов утра. Мне же по утрам приходилось кормить голубей и чистить голубятню. Я, как всегда, был безотказен. Голубеводство, если его поставить на научную основу, очень полезное и интересное занятие. Правда, оно требует больших расходов, так как окупить себя полностью не может.
(…)
Неприятный случай произошёл у нас поздней осенью того же года: совершенно неожиданно в одной из квартир нашего дома заболела маленькая комнатная собачонка. Ветеринарный врач признал бешенство. Собаку изъяли, но предложили немедленно сдать всех собак и кошек нашего двора. У нас же более 12 лет жила черно-пегая кошка Маруська, которую мы все очень любили, берегли и всегда ею любовались. У неё была интересная особенность — она даже молодой ни разу не котилась. Будучи уже в старом возрасте, она очень любила играть с нами и всегда находилась там, где были мы. Спала она всегда на печке. Когда мы ездили на дачу в Шувалово, то её брали с собой, но там она чуть не одичала, проводя все дни и ночи в лесу, занимаясь ловлей полевых мышей, а также разорением гнёзд мелких птичек и поеданием птенцов. Домой она приносила кротов, полёвок и даже медведок. Уезжая с дачи, мы едва разыскали её и с трудом привезли в город.
Вот тут-то и постигло её несчастье. Мама и Лиза плакали навзрыд, мы с Володей едва сдерживали слёзы. Никакие хлопоты не помогли. Городской ветеринарный врач Василий Иванович Просвирнин был неумолим, и мы навсегда расстались со своей любимицей. После этого у нас много перебывало разных кошек, но такой привязанности, как к Маруське, уже не было.
В эту же осень Женя с мужем уехали на зимний сезон с какой-то драматической труппой в город Режицу. Дмитрий Михайлович устроился суфлёром, а Женя билетёршей. С этого года они до 1914 года ездили с театральными коллективами, исколесили почти всю Россию. По зимам работали до Великого поста, во время которого русские зрелищные предприятия закрывались и разрешались только гастроли иностранцев, а потому Женя с мужем до летнего сезона приезжали к нам.
(…)
До сих пор я не знаю, чем было объяснить мою неуспеваемость в учении: то ли это была лень, то ли неспособность вообще, то ли позднее умственное развитие, но, учась второй год в 3-м классе, я всё же еле-еле тянулся по математике и немецкому языку. Эти предметы вели самые опытные и авторитетные учителя. Математику преподавал ещё не старый, очень серьёзный и всеми уважаемый учитель Павел Дмитриевич Яковлев, который несколько позднее и до самой революции был инспектором гимназии. (П.Д. Яковлев скончался в 1961 году в глубокой старости).
Немецкий язык преподавал Карл Карлович Дотцауер. В то время ему было далеко за 50 лет. Мы же, мальчишки, из-за его седины и большой, белой, окладистой бороды считали его глубоким стариком. Все гимназисты уважали почтенного учителя и в то же время очень боялись его. Он кричал на учеников и очень любил подсмеиваться. Я, будучи самолюбив и крайне стеснителен, запутавшись при ответе урока, краснел и замолкал, уткнувшись глазами в книгу или тетрадь — и двойка была обеспечена. Анализируя те годы учёбы, я всё так же склонен думать, что причиной моей неуспеваемости была исключительно лень.
Я долгие часы просиживал за подготовкой домашних заданий, но в то же время мои мысли были далеко от учебника. Я думал о голубях, о технике изготовления бенгальских огней и фейерверков, о приобретении очередных выпусков сыщиков Шерлока Холмса, Ната Пинкертона, Ника Картера и других. Я плохо сдружился с этим классом, никогда не видел поддержки сильных учеников, а, наоборот, они отпускали злые шутки и чувствовали какое-то удовлетворение, если я получал очередную двойку.
Незабвенная мамочка, безгранично любя всех нас, неумышленно вредила нам своим баловством. Она старалась, по возможности, удовлетворить все наши желания, капризы и прихоти. Она очень прилично нас одевала, кормила, как говорят, “на убой”, мы имели в общем пользовании мужской велосипед фирмы “Диана-Дюркоп”, купленный в рассрочку в магазине Людвига Фёдоровича Демме, тульскую берданку центрального боя и красивый катер с двумя парами вёсел. Оба мы имели по карманным часам, что в то время являлось редкостью. Всё это материальное благополучие давало возможность жить без забот и лишений, порождая порой мысли о никчемности образования. Мне в то время казалось, что такая жизнь будет вечна и нет смысла утруждать себя каким-то образованием. Володя, имея выдающиеся способности, учился без особой затраты труда и энергии, мне же не хотелось себя утруждать. Лень, и только лень, была причиной моей слабой успеваемости, иначе, чем можно объяснить, что, начиная с пятого класса, я стал учиться не хуже других и к окончанию гимназии стал близок к получению серебряной медали. За время моей учёбы в первых классах гимназии у меня перебывало много репетиторов. Мама не жалела никаких расходов на то, чтобы как-нибудь дать мне гимназическое образование. За это я бесконечно благодарен этой неугомонной труженице, отдавшей всю свою жизнь воспитанию своих детей.
Из своих репетиторов я помню учителя Петра Никитича Виноградова, студентов Симонова-Врублевского и Сергея Павловича Прошина. Лучше всего в моей памяти сохранился образ последнего моего репетитора, Бориса Николаевича Шамонина, а попросту, Борьки, гимназиста 6-го класса, сына директора гимназии Николая Николаевича Шамонина. Это был типичный белоподкладочник, “экс-гусар”, а в современном понятии — “стиляга”. Он воображал себя уже вполне зрелым мужчиной, хотя в то время ему едва ли было восемнадцать лет. Он открыто курил, любил кутить в компании себе подобных, ухаживал за женщинами и, как он любил хвастать, всегда успешно. Правда, как потом стало известно, один его роман кончился не совсем для него удачно. Он начал ухаживание за наездницей из временно пребывающего в Костроме цирка шапито. В гостиницу, где проживала наездница, он носил цветы, конфеты и сувениры. Деньги, видимо, тайно брал у отца. Об этом увлечении узнала его мамаша. Она приехала в гостиницу в тот момент, когда Борис находился в номере объекта своей любви. Поговорив серьёзно с женщиной, она взяла Бориса за ухо и довела до извозчика. Так неудачно кончился для него этот роман.
Он бравировал своими успехами у женщин и, не стесняясь моего присутствия, рассказывал маме о своих похождениях, при этом он никогда не забывал перехватить у мамы 1-2 рубля из своего 10-рублёвого месячного заработка. В качестве репетитора он пришёл по объявлению, вывешенному на воротах, и очень просил маму предоставить ему эти уроки за любое вознаграждение, на что мама согласилась очень неохотно.
По договорённости, Борис был обязан репетировать меня по математике и немецкому языку и просматривать выполнение мною домашних заданий по другим предметам. Он занимался со мной ежедневно по два часа, кроме воскресных и праздничных дней. Для “пущей” важности Борис любил кричать, ругаться и даже топать и стучать кулаком о стол, обзывая меня “остолопом”, “дубиной стоеросовой” и прочее. Правда, мама его одёргивала и запрещала обидно обзывать меня. Как я потом узнал, он во всем подражал своему отцу. Вначале я его боялся, а поняв его повадки, на его горячность только улыбался. Через несколько недель мы с Борисом стали почти друзьями. Когда почему-либо он не мог прийти ко мне, он с запиской присылал служителя, и я шёл к нему.
Директор имел при гимназии большую казённую квартиру, комнат 6-8, во втором этаже правого крыла. У Бориса была отдельная комната, являвшаяся кабинетом и спальней, с ходом из общего коридора. Он познакомил меня со своей мамашей Евгенией Николаевной и сестрой Зиной, гимназисткой 8 класса Григоровской гимназии. Я нередко по вечерам бывал в их семье. Иногда горничная подавала нам чай с сухарями, конфетами и булочками. В отсутствие директора приглашала меня в общую столовую. Бывал я и в гостиной, где Зина играла на рояле, а Борис что-нибудь пел по нотам. Я присматривался ко всему и тщательно изучал манеры аристократического общества. У Бориса был старший брат Николай, который в то время учился в Московском университете и приезжал домой только на Рождество и летом.
Мне приходилось всячески скрывать от своих одноклассников знакомство с семьёй директора, дабы не получить ярлыка доносчика, шпиона и подлизы, но от служителей, или, как их тогда называли, дядек, этого скрыть мне не удалось. Они часто ходили ко мне с записками Бориса и часто видели меня входящим в квартиру с чёрного хода. Все служители имели квартиры при гимназии. Мои посещения квартиры директора они поняли по-своему, причислив и меня к категории костромской аристократии. При входе в гимназию швейцар-гардеробщик открывал передо мной двери, снимал с меня шинель и убирал галоши, при уходе домой всё это проделывалось в обратном порядке, причём галоши всегда были вымыты. Таким почётом среди гимназистов пользовались только сыновья аристократов, фабрикантов и богатых купцов. Это льстило моему самолюбию уже потому, что таким “уважением” не пользовался брат Володя. Я же такое отношение ко мне служителей поддерживал “чаевыми”, сэкономленными из своих карманных расходов.
Однажды Борис, узнав, что у нас в классе была письменная работа по немецкому языку, вечером предложил мне вместе с ним пройти в учительскую, где на этажерке он нашёл пачку тетрадок с диктантом по немецкому языку, изъял оттуда мою, и мы с ним ушли в один из пустых классов. Он взял чистую тетрадь и предложил мне, под его диктовку написать текст, сделав умышленно несколько ошибок. Тут же тетрадь была положена на старое место, а через несколько дней Карл Карлович вручил мне её с отметкой три с плюсом. В душе мне было очень стыдно за свой вынужденный неблаговидный поступок, совесть была неспокойна. Я не умел и не любил обманывать кого бы то ни было.
А однажды репетитору и ученику попало довольно серьёзно от мамы. Как-то вечером у Шамониных, после занятий, Борис предложил мне выпить виноградного вина, сказав, что у него сильно болит голова после вчерашнего кутежа у Треберта, гимназиста 8 класса, известного в то время “покорителя сердец”, сына губернского архитектора. Борис из прикроватной тумбочки вынул две рюмки и бутылку кагора. Мы выпили, и я сразу почувствовал опьянение. Борис тут же предложил по второй, и я пришёл домой под хмельком. Мама очень расстроилась, обещала иметь серьёзный разговор с Борисом и крепко меня отругала. На другой день она стала строгим голосом говорить с Борисом, доказывая ему недопустимость подобных действий. Он вначале растерялся, а потом, вынув из кармана портсигар, сказал: “Пустяки, Лукия Денисовна, у меня было церковное вино. Вот лучше разрешите угостить вас новомодными папиросами”, и он действительно предложил маме какие-то особенные папиросы. На этом инцидент был исчерпан.
Впоследствии Борис, по окончании гимназии, поступил в петербургский Морской кадетский корпус, где его застала революция, и он эмигрировал во Францию. Долгое время Борис работал шофёром такси в Париже. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.
Николай Николаевич Шамонин в 1915-16 годах был переведён директором гимназии в Рязань, где вскоре и скончался, подавившись косточкой от сливы. Сын Николай по окончании университета женился на дочери известного историка Платонова и в начале революции также эмигрировал за границу. Судьба остальных Шамониных мне неизвестна. Директором гимназии был назначен известный историк Добрынин, который и оставался на этом посту до самой революции.
Костромская первая классическая гимназия по количеству учащихся была крупной. В ней обучалось более 700 человек, причём не только из города, но и изо всех уголков губернии. Все учащиеся обучались в одну смену; кроме приготовительного класса, все остальные делились на два отделения. Учителей было не менее 30 человек, и все они на несколько лет закреплялись за одним отделением и преподавали в нём до прохождения программного курса, а потому мы, гимназисты, знали более близко только определённую группу учителей, с остальными же сталкивались крайне редко. Я всё время учился по первому отделению.
В классы основного, первого, отделения зачислялись перешедшие из приготовительного класса, а также все дворянские сынки, проживающие в дворянском пансионе, который находился в то время в большом красном каменном доме в начале Еленинской (ул. Ленина) улицы. Из-за них первое отделение считали привилегированным. В это отделение зачисляли детей костромской буржуазии и крупного купечества. Более опытных и авторитетных учителей также закрепляли за первым отделением. Надо сказать, что по социальному положению в классе оказывались самые разнообразные ученики. Были дети предводителей дворянства, офицеров, учителей, врачей, торговцев, фабрикантов, попов, зажиточных домовладельцев и очень мало крестьян. Детей рабочих были единицы. Евреев принимали не свыше 10%.
(…)

Отец Аполос 1916 год.
В каждом возрастном периоде нашей гимназической жизни у нас были учителя-любимчики и такие, которых мы не любили, но боялись и слушались. Так, в приготовительном классе мы любили своего учителя и классного наставника Петра Никитича Виноградова и классного надзирателя (он же учитель пения) Бориса Владимировича Пиллера и страшно боялись и недолюбливали законоучителя о. Аполлоса Благовещенского за его суровый наружный облик, резкий голос и грубое обращение с приготовишками. Как не имеющий высшего образования, он допускался к ведению уроков только в приготовительном классе.
От о. Аполлоса один раз была большая неприятность, о чём я коротенько упомянул ранее. Как-то за уроками закона Божьего я засмотрелся в окно на Волгу и ничего не слышал из его объяснения о скрижалях с десятью заповедями, переданных Богом пророку Моисею на горе Синае. Он заставил меня повторить. Я же не мог вымолвить ни одного слова. Жирная единица украсила классный журнал против моей фамилии. Правда, на следующих уроках она легко была исправлена мною на четвёрку.
Начиная с 1-го класса, в гимназиях было уже предметное преподавание, и мы знакомились со многими учителями, привыкая к приёмам и методам каждого из них. Классным наставником в нашем классе с 2 по 4 год обучения был законоучитель, священник о. Михаил Раевский, которого мы не боялись, полюбили и уважали за его отзывчивость, чуткость и отцовский подход к каждому гимназисту. Отец Михаил был в возрасте около 50 лет, маленького роста, худощавый, с реденькой, седеющей тёмно-русой бородкой. Его желтоватое лицо избороздили глубокие морщины. На уроках он редко сидел, а любил ходить между партами, а иногда стоял около классной доски, держась руками за грудь в области сердца. Видимо, он страдал какой-нибудь сердечной болезнью. Ни один гимназист не имел по его предмету оценки ниже четырёх.
Чем мы становились старше, тем с большим количеством учителей нам приходилось сталкиваться. Мы наблюдали за ними на уроках, вне класса, интересовались их личной жизнью, изучали их привычки, увлечения, страсти и прочее. Среди гимназистов ходило много различных анекдотов об учителях, которые, быть может, полностью и не соответствовали действительности, но конкретно и метко рисовали образы того или другого учителя. Некоторые учителя даже после своего ухода из гимназии надолго оставляли после себя хорошую или дурную память. Рассказы о них передавались из поколения в поколение.
В моё время в учительском коллективе гимназии были такие, о которых можно рассказать много интересного. Остановлюсь только на некоторых, выделявшихся из общего учительского коллектива своей оригинальностью. Как живой встаёт в моей памяти оригинальный образ учителя латинского языка Евгения Матвеевича Арбатского. В то время это был мужчина в возрасте под сорок лет, среднего роста, с розовым цветом лица, с бритой головой и маленькими светло-рыжими усами. Из-за сильной дальнозоркости, он носил очки с большим увеличением и всегда в золотой оправе. Его некрасивое лицо отличалось богатой мимикой, отражающей частые изменения настроения.
Евгений Матвеевич обращал на себя внимание чрезвычайно громким, резким голосом, отчего получалось впечатление, что он чем-то расстроен или на кого-то сердит. Гимназисты его очень боялись, а те, которые ближе познакомились с Евгением Матвеевичем и изучили его увлечения, умели легко влиять на его настроение и своими своевременными вопросами отводили его от эмоциональной вспышки и последующих неприятностей. А увлечений у Евгения Матвеевича было много. Прежде всего, он был заядлый пожарный, являясь активным членом правления добровольного пожарного общества. В учительской у него всегда находилась медная каска и специальный пожарный пояс. Если случался где-либо пожар, Евгений Матвеевич даже прекращал уроки, бежал в учительскую, быстро надевал пожарные доспехи и на первом попавшемся извозчике мчался к месту пожара. Разговор о пожарах был его любимой темой, и он говорил о них с подъёмом и возбуждением; конечно, не без добавления фантазии, как это всегда делают энтузиасты, охотники и рыболовы.
Зная эту слабость Евгения Матвеевича, догадливые гимназисты “в минуту трудную”, говорили: “Евгений Матвеевич! Кажется, прозвучал пожарный колокол на главной”. Этого было достаточно, чтобы Арбатский прекращал урок и бежал к телефону в учительскую. Пока он выяснял, гимназисты успевали выйти из затруднительного положения, а он остывал, и всё входило в нормальную колею.
В общем же Евгений Матвеевич был довольно неплохим учителем и далеко не односторонне развитым человеком. Кроме латинского языка, он давал уроки географии, в каникулярное время много путешествовал по России, занимался спортом, любил русскую литературу, недурно писал стихи и находил время бывать в весёлой компании друзей.
Он был махровый монархист и чуть ли не член “Союза русского народа”, а в части религии — глубоко верующий. Одно время он даже был помощником церковного старосты при гимназической церкви. Старостой же очень долго был купец 2 гильдии, заводчик по отливке колоколов Серапион Забенкин, тесть гимназического учителя Василия Ивановича Смирнова, о котором будет сказано ниже.
Не менее оригинальной личностью был учитель французского языка Альберт Евгеньевич Дестор. Он приехал в Кострому непосредственно из Парижа. Поговаривали, что, будто бы, он даже не имел высшего образования, а во Франции служил клерком (чиновником). Может быть, в действительности это было и не так, но разговоры такие среди гимназистов были.
До приезда Дестора уроки французского вёл француз Борель, но я в гимназии его уже не застал. Говорили, что это был молодой и красивый мужчина, кутила и “донжуан”. Однажды с ним произошёл весьма неприятный для него случай, из-за которого ему пришлось расстаться с гимназией и покинуть Кострому. Как-то после большого ночного кутежа он проспал и, заторопившись на уроки, надел длинный форменный сюртук, а брюки забыл. В таком виде на парадной лестнице он повстречался с директором гимназии, и с того времени его уже никто не видел в нашем учебном заведении. Так или не так это было, но легенда о Бореле передавалась из поколения в поколение.
А.Е Дестор был человек в другом роде. Он был в среднем возрасте, рыжеват, невысок, сутул и некрасив. В движениях суетлив, чрезвычайно вспыльчив и криклив. С первых же дней своей работы в Костроме он проявил себя как добровольный сыщик, шпион и доносчик гимназической администрации на гимназистов. Его можно было встретить в вечернее время на людных улицах, в гортеатре, около кино, на бульваре и на Муравьёвке. У гимназистов — нарушителей ученических правил — он отнимал ученические билеты, а тех, у которых таковых с собой не было, передавал полиции для удостоверения личности; задержанные записывались в книгу нарушений, называемую “кондуит” и, по решению педагогического совета, получали снижение оценки по поведению или отсиживали по 6 часов в воскресные дни под наблюдением надзирателей. Встречи с Дестором и инспектором 2-й гимназии Воскресенским, занимавшимся тем же, боялись все гимназисты.
В первое время Дестор очень плохо понимал по-русски, еще хуже изъяснялся. Пользуясь этим, гимназисты любили разыгрывать его за уроками. Более смелые, вроде Абрама Залкинда или Владимира Салькова, вместо положенного в начале урока рапорта, подкидывали набором самой отъявленной похабщины или, вместо утренней молитвы, читали неприличные стихи типа “Гаврилиады” или произведений Баркова. Как-то, запомнив несколько самых отборных похабных слов, Альберт Евгеньевич, при общем собрании учителей в учительской, обратился за переводом их к пожилой учительнице французского же языка Марии Александровне Вознесенской. Тут же присутствовала молоденькая учительница, бывшая институтка Орнатская. Учителя не выдержали и разразились гомерическим хохотом, а женщины покраснели и крайне сконфузились. Всё же Дестор был удовлетворён переводом, и после этого ученикам пришлось изменить тактику разыгрывания учителя.
Как ни шумно проходили уроки французского языка, всё же гимназистам нравилась постановка преподавания Дестором, и мы все очень полюбили этот язык. У него была система — весь урок вести в разговорной форме, избегая употребления русских слов, кроме необходимых переводов. С каждым годом мы лучше и лучше знали французский язык и к окончанию гимназии свободно объяснялись в обычном разговоре и свободно читали и понимали в подлинниках французских поэтов и писателей. На оценки он не скупился. Спустя 8-10 лет по окончании гимназии, я, работая в органах милиции, часто встречался с Альбертом Евгеньевичем на улицах, и мы всегда разговаривали на его родном языке, к удивлению прохожих, так как в то время не было работников милиции, знающих европейские языки.
Ко мне Дестор проявлял особую симпатию, всегда останавливал меня на улице и жаловался на своё тяжёлое материальное положение и трудности получения визы на выезд во Францию. Наконец, ему удалось этого добиться и в 1928 году уехать во Францию, где он и умер в начале тридцатых годов.
Хочется более подробно описать жизнь ещё одного учителя, которого я знал лучше других. Большую, долгую жизнь прожил учитель словесности и русского языка Владимир Алексеевич Андроников. В описываемое мною время он из всех учителей гимназии выделялся элегантным костюмом, галантным обращением со всеми и чересчур слащавым, с явным проявлением лести с людьми, стоящими выше его на иерархической лестнице, как-то: директором и инспектором гимназии, видными в городе родителями гимназистов, не говоря уж о губернаторе, попечителе Московского учебного округа, предводителе дворянства, архиерее и городском голове.
Я очень хорошо знал личную жизнь Владимира Алексеевича, и мне хочется остановиться на её описании более подробно. В доме Андрониковых в Борисоглебском переулке я впервые начал систематическое обучение у домашней учительницы Дерновой Анны Афиногеновны.

Cправа Церковь Бориса и Глеба
Отца Алексея я знал как настоятеля губернаторской церкви Бориса и Глеба, прихожанами которой были и мои родители. С церковными требами в праздники всегда бывал у нас весь причт этой церкви. Владимира Алексеевича я знал и как своего учителя. Таким образом, мне невольно в гимназии и в домашней жизни приходилось постоянно сталкиваться с этой довольно небезынтересной семьёй. Много разговоров бывало о всех членах этого патриархального семейства. Ближе к их интимной жизни была, конечно, прислуга, которая из-за скупости хозяев и постоянного контроля за куском хлеба, редко уживалась, и вот она-то и выносили всё наружу. Вероятно, не без участия домашней работницы трагически окончилась жизнь маститого, заслуженного старца, но к этому происшествию я вернусь в своё время.
Я помню отца Алексея уже в довольно преклонном возрасте. Это был седенький, маленький, довольно крепкий старичок, с елейным, приветливым личиком. Благодаря умелой, тонкой лести перед губернатором и другими высокопоставленными лицами, отец Алексей сумел получить, помимо всех наград по епархиальной линии, орден св. Анны 1-й степени; это была звезда и красная, с узкой жёлтой каймой, муаровая лента через плечо. В особо торжественные дни он надевал все эти регалии на свою атласную рясу. Отец Алексей давно был вдов. С ним, помимо Владимира Алексеевича, проживали ещё две дочери, обе уже в возрасте за сорок лет. Говорили, что одна из них была замужем, но рано овдовела. Они были очень похожи друг на друга — маленькие, худенькие, с весьма ограниченным кругозором. Одевались всегда старомодно. Всё хозяйство вела самая старшая — Надежда Алексеевна.
Эта семья отличалась какой-то отчуждённостью от мира сего. Редко кто бывал в их доме, они же тоже ни с кем не дружили. Жили очень скупо. Домашняя обстановка не отличалась богатством и была старомодна. Люди говорили, что у Андрониковых были большие денежные накопления, золотые вещи и драгоценные камни, вплоть до бриллиантов.
Владимир Алексеевич, как самый младший в семье, был любимцем и баловнем. В противоположность сёстрам, он одевался даже богато. Мундир, форменные сюртук и тужурка у него были новее и богаче, чем у прочих учителей. В гимназию он являлся всегда тщательно выбритым, припомаженным и надушенным, чёрная бородка-эспаньолка очень гармонировала с его округлым, розовым лицом и всей приземистой полной фигурой. Благодаря унаследованным от папаши иезуитски льстивым приёмам при обращении с нужными людьми, Владимир Алексеевич быстро продвигался по служебной дорожке, и, имея от роду не более сорока лет, он уже был обладателем чина статского советника и нескольких внеочередных орденов, в то время как его сверстники-учителя едва имели чин титулярного советника.
В расцвете своей служебной карьеры, т.е. в возрасте 40 лет, он женился на дочери священника, которая была моложе его на 17 лет и представляла собой полную противоположность Владимиру Алексеевичу. С первых дней своей супружеской жизни она показала себя как далеко незавидная хозяйка, неряшливая и от природы обиженная умом и каким бы то ни было талантом. Владимира Алексеевича при женитьбе, видимо, больше всего привлекло приданое, на которое не поскупился тесть. С женитьбой круто изменилась жизнь Владимира Алексеевича: он перестал так тщательно ухаживать за своей внешностью, начал с головой уходить в личную жизнь. Заметив какое-то расточительство и беспечность со стороны своей молодой супруги, всю заботу о семье и хозяйстве он принял на себя, учитывая в расходах каждого члена семьи.
Впоследствии у Владимира Алексеевича были две дочери, которым не удалось получить хотя бы среднего образования. В 1918 году бандиты с целью грабежа зарезали старика о. Алексея. Вскоре одна из сестёр Владимира Алексеевича, купаясь, утонула в реке Сендеге, а другая сестра ещё много лет проживала в этом маленьком домике в Борисоглебском переулке. Её знали все соседи и всегда смеялись, глядя на её неизменный узелок, с которым после смерти отца она никогда не расставалась. Поговаривали, что в нём она носила все фамильные драгоценности. После революции Владимир Алексеевич преподавал в школе, а потом, находясь на пенсии, до последних лет своей жизни занимался чтением лекций на историко-филологические и археологические темы. Он скончался в ноябре месяце 1961 года, в возрасте 87 лет.
Вспоминается мне ещё учитель истории Василий Иванович Смирнов. По своим политическим убеждениям среди учительского персонала гимназии он считался самым левым, так как официально состоял членом социал-демократической партии (меньшевиков). На уроках истории в старших классах он систематически и очень искусно внушал гимназистам передовые, социалистические идеи, открыто бичевал пороки самодержавного строя. Основное большинство гимназистов, за исключением ярых монархистов, очень уважали Василия Ивановича. Он любил организовывать экскурсии по городу и в сельскую местность, и желающих ходить с ним было множество. Во время таких походов он ближе знакомился с гимназистами и бывал с ними гораздо откровеннее.
Мы все знали, что им интересовалось жандармское управление и он был под негласным надзором полиции. Учителя близко не сходились с Василием Ивановичем из боязни навлечь на себя неприятности со стороны начальства. Василий Иванович, как я уже говорил выше, был женат на дочери заводчика Забенкина, и это родство, вероятно, и спасало его от более серьёзных репрессий со стороны жандармского отделения. Уроки истории, даваемые Василием Ивановичем, мы все очень любили, так как они не были насыщены монархической пропагандой, а преподносились учащимся с критическим подходом к историческим событиям и не являлись пересказом материала, излагаемого в учебниках того времени.
Василий Иванович и Владимир Алексеевич вели большую общественную работу в археологическом обществе и принимали активное участие в создании местного краеведческого музея, хотя по своим политическим взглядам они были чуть ли не диаметрально противоположны.
(…)
В нашей гимназии появился новый преподаватель военного дела, капитан Пултусского пехотного полка Николай Петрович Репин. Это был типичный царский служака, едва после сорокалетнего возраста получивший в командование роту. (…) Он был среднего роста, худощавый, с ярко-рыжей небольшой квадратной бородкой, одет всегда строго по форме. Говорил тихо и спокойно, но команды подавал отчётливо, громко и точно. На уроки он всегда приводил одного или двух унтер-офицеров, которые демонстрировали упражнения на гимнастических снарядах (параллельных брусьях, коне, кольцах, турнике и буме). Сам капитан показывал упражнения редко. Этому причиной был, вероятно, возраст. Мы, гимназисты, в основном очень любили военные занятия, в особенности те из нас, которые готовили себя к военной карьере. К этой категории, конечно, принадлежал и я. Моё усердие было отмечено капитаном, и я вначале был назначен командиром отделения, а вскоре и командиром взвода, т.е. всего класса.
В мою обязанность входило: строем привести взвод в актовый зал, построить его по расчету и, при входе в зал офицера подав команду “смирно”, подойти с рапортом. По окончании занятий я уводил взвод в класс. Это меня очень увлекало, поднимало мой авторитет перед товарищами по классу и льстило моему честолюбию. Я особенно гордился маленьким, защитного цвета погоном, обшитым трёхцветным шнурком вольноопределяющегося и с настоящими нашивками старшего унтер-офицера. Этот погон нашивался на груди, с левой стороны, у края разреза куртки.
(…)
1913 год для царской России был юбилейным годом — исполнялось 300 лет царствования Дома Романовых, а Кострома, считавшаяся колыбелью этой династии, готовилась праздновать юбилей особо торжественно.

Романовская больница Федоровской общины, состоявшей при Костромском отделении общества "Красного креста" (в просторечии - больница "Красный крест").

Царская беседка
Губернские и городские власти начали подготовительные работы ещё с 1909-1910 годов. Помимо текущего ремонта существующих домовладений и общественных зданий, который возлагался целиком на домохозяев и общественные организации, по линии городского правления было запланировано и принято к немедленному выполнению следующее: переоборудование и расширение сети городского водопровода по проекту профессора Энша, с постройкой водонасосной станции с фильтрами и отстойными баками на берегу реки Волги, около Молочной горы. Предусматривалось увеличение протяженности водопроводной сети по направлению к фабрикам, а также постройка водонапорной башни на Мясницкой улице.
Кроме того, приступили к постройке городской электростанции общего пользования мощностью 400 квт. Здание электростанции было запланировано и построено рядом со зданием горводопровода. В общем виде эти два здания сохранились до последних лет. Вскоре началось строительство зданий музея и больницы Федоровской общины сестёр милосердия Красного Креста.*
Из всех подготовительных мероприятий самым сложным и ответственным было утверждение проекта памятника “300-летию Дома Романовых”. Разрешение этой задачи целиком взяло на себя правительство, утвердив из многочисленных проектов, представленных на конкурс, проект скульптора Адамсона. Костромскому дворянству было предоставлено право заняться сбором средств на это строительство. Место для этого памятника было отведено на краю Соборной площади у самого обрыва к Волге.
Здесь я перечислил более крупные объекты капитального строительства, которых без юбилея костромичам, быть может, скоро не пришлось бы увидеть, но были постройки и другого значения, которые требуя больших материальных затрат, имели только лишь временное значение, в основном в дни празднования. К таким надо отнести: постройку красивого павильона на обрыве к Волге, около соборной ограды, который назывался “Царская беседка”, шатра у предполагаемого памятника, нескольких пристаней-дебаркадеров в стиле старинных ладьей екатерининских времён, а также постройка павильонов губернской земской выставки в районе между современными улицей Подлипаева (бывш. Воскресенская) и Коротким (бывш. Никольским) переулком. На очищенной от дровяных складов и жалких лачуг обширной территории было построено не менее тридцати одно- и двухэтажных павильонов в древнерусском стиле из гладко струганных брёвен со сложной резной отделкой. На выставочной площади была сооружена из бетона скульптура русского богатыря, сидящего на могучем боевом коне в полном вооружении. Заводчик Забенкин построил “старинную” деревянную звонницу с набором всей гаммы блестящих колоколов *.
На все запланированные мероприятия требовались большие денежные средства, но государство ассигновало крайне скупо, надеясь на благотворительность. Так, Кострома давно ожидала специального здания для краеведческого музея, так как накопленные за многие годы архивные, археологические и палеонтологические экспонаты были размещены в совершенно непригодных для этой цели помещениях. Учёная архивная комиссия в течение десяти лет собирала пожертвования и, только воспользовавшись юбилеем, сумела приступить к постройке специального здания музея, который и был открыт 16 января 1913 года под названием “Романовский”. Точно так же, в ложнорусском стиле, было построено здание больницы “Красный крест” на Нижне-Дебринской улице, ниже Муравьёвки. Костромичи в то время очень нуждались в больницах и во врачебной помощи, но государство не нашло нужным отпустить средства на это строительство, и больничный корпус был построен на средства Федоровской общины Красного креста.
При подготовке к торжествам большое внимание было обращено и на людские кадры. По церквам, учебным заведениям, в казармах и даже в рабочих общежитиях и клубах возносились заслуги романовской династии и здравствовавшего в то время “августейшего семейства”. К юбилейным торжествам всем учащимся, мальчикам и юношам, было предложено иметь белые тужурки и белые чехлы на фуражки, а девочкам и девушкам — белые фартуки, нарукавники, пелерины на форменные платья. Учителя, чиновники и все служащие обязывались иметь также парадную летнюю форму при всех положенных по чину регалиях.
Небывалая работа ожидала портных, модисток, шапочников, сапожников и прочих ремесленников. Все подобные мастерские и отдельные мастера были завалены работой за много месяцев до торжеств. Бойко торговали ходовыми товарами мануфактурные торговцы и галантерейщики. Немалую подготовительную работу проделали судебные органы, жандармское отделение и полиция по очистке Костромы от политически неблагонадёжных людей, которых постарались заблаговременно выслать за пределы Костромской губернии. Малейшее подозрение давало повод к помещению в тюрьму или в камеру предварительного заключения. Охранка и полиция особенно строго следили за всеми приезжающими в город и гласно или негласно проверяли личность каждого вновь прибывшего. Выборочно проверялась и почтовая корреспонденция. На ноги был поставлен весь актив тайной полиции.
За несколько недель до торжеств в Кострому прибыли лейб-гренадерский Ериванский полк из Петербурга, отборная сотня конного Кизляро-Гребенского казачьего полка и сотня 30-го Донского казачьего полка. За несколько дней до празднования на улицах города появились франтоватые офицеры и нижние чины столичной полиции и жандармерии, а сколько было их без официальной формы, секретно, — это простому костромскому обывателю известно не было.
Губернатор Шиловский, видимо, по мнению правительства, не мог в должной мере обеспечить безопасность “августейших гостей”, а потому ещё в конце 1912 года на его место был назначен действительный статский советник, егермейстер двора Его Величества Пётр Петрович Стремухов, мужчина средних лет, вылощенный царедворец, ярый монархист, поклонник и покровитель “чёрной сотни” и всех их организаций. На такого начальника губернии, конечно, можно было положиться, такой не подведёт, и он, действительно, не подвёл.
В последние дни перед празднованием много работы и заботы было у домовладельцев. Им было предложено восстановить пресловутые фонари на воротах домов, покрасить фасады и заборы, выровнять тротуары, углубить водосточные канавы и покрасить тумбы фонарных столбов.
Кострома переживала горячие дни. Все жители были заражены этим предпраздничным подъёмом, а уж нам, мальчишкам, работы было больше всех. Мы толпами бегали смотреть на строительство выставки, больницы, музея и успевали везде.
Всем очень хотелось ускорить приближение этих “торжественных” дней, немало потрудились “отцы города” и органы, обеспечивающие порядок и заботу о безопасности “высоких гостей” (…). В памяти народа ещё свежи были Кровавое воскресенье, столыпинская реакция и, ещё ближе, Ленский расстрел рабочих на далёких золотых приисках в 1912 году, давший мощный подъём революционного движения по всей стране, в особенности в таких крупных рабочих центрах, каким была революционная Кострома.
Для встречи гостей всё было продумано довольно основательно. Поскольку этот юбилей праздновался во всероссийском масштабе, то, в основном, подготовка к нему велась в верхах.
Всем населённым пунктам, расположенным по берегам Волги, от Нижнего Новгорода до Углича, было приказано строить арки, украшенные национальными флагами, государственными гербами, императорскими вензелями, верноподданнейшими аншлагами и лозунгами. Всё взрослое население обязывалось выходить на берег и приветствовать флотилию криками “ура!”. Прибрежные сельские церкви должны были встречать гостей колокольным звоном.
Флотилия двигалась серединой фарватера реки, нигде не останавливалась до самого города Костромы, лишь замедляя ход около городов и крупных населённых пунктов.
(…)
Большие реставрационные работы были произведены в Ипатьевском монастыре за рекой Костромой, где было решено организовать царскую резиденцию и провести первую встречу. Хозяева города наивно думали, что царь и его семейство рискнут провести ночи на берегу, но этого не случилось.
В последние предпраздничные дни ежедневно, по несколько часов, все учащиеся тренировались, маршируя по городу с деревянными бутафорскими ружьями. Учащиеся женских учебных заведений маршировали с букетами цветов.
Вот, наконец, наступили долгожданные дни. Надо сказать правду — все, от мала до велика, с нетерпением ожидали приезда “Божьего помазанника” и его августейшего семейства. Ведь ни один из костромичей не видел никого из царствующего семейства, кроме как на портретах. Пропаганда, наглядная агитация, вся предпраздничная суета разжигали интерес каждого. Всем хотелось скорее и поближе увидеть гостей.
За два-три дня в Кострому стали приезжать высшие офицеры и гражданские лица из императорской свиты, министры и великие князья.
19 мая празднично украшенный город с самого раннего утра ждал приближения речной флотилии. С рассветом весь берег Волги против города и с городской стороны заполнился празднично одетым народом. Каждый стремился занять своё место ближе к реке или на холмах у собора, Маленького бульварчика, на Городищенских холмах, а также на Стрелке.
Нас, гимназистов, установили развёрнутым строем по двое по Ильинской (Чайковского) улице от пристани “Самолёт” до Русиной улицы. Против нас стояли гимназистки Григоровской гимназии. Как только царская флотилия показалась около Татарской слободы, по удару большого соборного колокола, раздался оглушительный колокольный звон всех сорока церквей. С заволжской стороны, от Городища, раздались залпы артиллерийского салюта. Вдали, около Ипатьевского монастыря, а также на городской стороне играли духовые оркестры. Народ криком “ура!” приветствовал “царственных гостей”.
Флотилия в составе пароходов “Межень”, “Стрежень”, “Свияга”, “Цесаревич Алексей” и “Царь Михаил Федорович”, эскортируемая паровыми катерами речной инспекции, медленно проплыла мимо города к Ипатьевскому монастырю. Царь Николай со своим семейством находился на пароходе “Межень”, и все они у города вышли на палубу, приветствуя костромичей. Так как флотилия шла центром реки, то за дальностью расстояния рассмотреть кого-либо было очень трудно. После проезда гостей учащихся распустили по домам, на завтрак, с тем, чтобы через три часа всем быть на тех же местах.

Народ в ожидании приезда их Императорских Величеств в Кострому.
Первая встреча состоялась в районе Ипатьевского монастыря. Там собрались высший генералитет, царская свита, представители костромского дворянства, сановники, отцы города и войска. После церемониала встречи все проследовали в монастырский храм, где был отслужен торжественный, благодарственный молебен, после чего состоялся парад войск Костромского гарнизона совместно с прибывшими ериванцами, кизляро-гребенцами и донцами.
После осмотра древностей Ипатьевского монастыря, усыпальницы Годуновых, дворца Михаила Федоровича гости и сопровождавшие их лица водным путём направились в Кострому, где всё уже было готово для торжественной встречи. По маршруту следования гостей, по обеим сторонам улиц, стояли плотным строем учащиеся, за ними были натянуты канаты, за которыми разрешалось стоять неорганизованному населению. Между рядами учащихся и населением была цепь полицейских, жандармов и каких-то типов в штатских костюмах. Внешне казалось, что детям и учащимся выделили наилучшие места, чтобы лицезреть “обожаемого монарха” и его свиту, а на самом деле это было придумано исключительно из страха и предосторожности, из расчёта, что никто не решится бросить бомбу через головы детей. Во время проезда процессии не разрешалось открывать окна, залезать на крыши домов и деревья, но это указание полиции везде нарушалось и нарушителей не преследовали.
Всё шло по плану, лишь подводила погода, с утра угрожавшая дождём, а к вечеру разразившаяся сильной грозой и ливнем.
Хочется сказать ещё об одной детали. Трудно объяснить, почему для передвижения по городу был полностью исключён автотранспорт, хотя к тому времени в Костроме уже были легковые и даже грузовые автомашины. Откуда-то появились прекрасные вороные рысаки, упряжного каретного типа, управляемые представительными бородатыми кучерами в блестящих бутафорских костюмах. Открытые экипажи блестели на солнце чёрным лаком. Нам, стоявшим у самой пристани, отлично было видно, как царь и его семейство, окружённое блестящей свитой и встречающим городским и губернским начальством, выходили по красному сукну пристанского мостка, как все размещались по экипажам и ехали по Ильинской улице на Русину. Первым на паре вороных рысаков, стоя лицом к царю, ехал губернатор Стремоухов в своём белом придворном мундире с красной лентой через плечо (орден Станислава I степени), со шпагой и в треугольной шляпе с плюмажем; за ним следовал экипаж с царём Николаем II, его супругой и матерью Марией Федоровной, а далее — экипажи с дочерьми и наследником Алексеем, с которым неотлучно находился великан-красавец, матрос Деревенько. Свита и генералитет ехали сзади.
У меня до сих пор перед глазами стоит фигура одного странного гостя, ехавшего среди свиты; он был в возрасте старше сорока лет, с длинной чёрной бородой, острижен под кружок. Обращала внимание его одежда: чёрный мужицкий кафтан, белая шёлковая русская рубаха и чёрные шаровары, заправленные в русские сапоги. Говорили, что это был Гришка Распутин. (…)
Я, как и все подростки и взрослые костромичи, в этот день испытывал какую-то торжественность. Нам приходилось своими газами видеть российского самодержца, “помазанника Божьего”, как в то время именовали царя. Какое-то чувство благоговения, умиления, и в то же время страха, испытывал каждый при виде этого невысокого, худощавого, рыжебородого полковника с ничего не выражающим, холёным, с небольшим отёком лицом. Надменный вид и осанка Александры Федоровны были много величественнее, чем у её венценосного супруга.
Дочери не блистали красотой, но были богато и просто одеты в совершенно одинаковые светлые костюмы. Жалкое впечатление оставалось от вида наследника-цесаревича: он очень плохо передвигался, и с пристани в экипаж выносил его на руках матрос-нянька. Оба дня мальчик был одет в матросский костюм; миловидное, бледное лицо его отражало тяжёлое хроническое заболевание. Такое впечатление осталось у меня от всего семейства Романовых. За два дня пребывания гостей в Костроме мне удалось видеть их трижды.
В первый день гости посетили губернаторский дом, где состоялся приём делегаций от всех учреждений, а также религиозных общин и сект; дворянское собрание, где также был приём дворянско-помещичьих делегаций во главе с уездными предводителями. После всего был осмотрен недавно открытый местный музей. Резиденцией для отдыха и сна ими был избран один из пароходов флотилии, поставленный на рейд под охраной полиции. Торжественные завтраки и обеды проходили в губернаторском доме, дворянском собрании а также в Богоявленском и Ипатьевском монастырях.
Особенно торжественным был второй день празднества. С утра, после пышного богослужения в кафедральном соборе, процессия, возглавляемая высшим духовенством, направилась к специальному шатру, оборудованному в конце Соборной площади, для церемонии закладки памятника 300-летия Дома Романовых. Фундамент для будущего памятника был уже готов. После специального молебна в этом шатре император, взяв два юбилейных серебряных рубля, положил их в лунку фундамента, то же сделали все члены царской фамилии, после чего Николай II заложил первый кирпич. (Не знал Божий помазанник, кому он заложил этот памятник). Тут же, на площади, состоялся парад всех войсковых соединений. Мы в этот день стояли по пути следования на Борисоглебском переулке, а к 4 часам дня были переведены в район выставки. После парада царское семейство перешло в беседку, откуда приветствовало толпы костромичей.
После обеда был снова прём делегаций. Большую изобретательность проявили земские дельцы, подобрав волостных старост и старшин: одного к одному, солидных, бородатых и, конечно, самых зажиточных. Все они были одеты в новые синие суконные кафтаны, в синие картузы и смазные кожаные сапоги. У многих из них были какие-то медали, и у всех — большие медные бляхи на цепях, одетых на шею. Это был знак государственной власти. Верхушка деревни на самом деле не могла представлять интересы крестьянских масс, но зато была ярой сторонницей абсолютной монархии.
Благодаря тёплой ясной погоде, приём крестьянской делегации состоялся прямо на свежем воздухе в губернаторском саду. Там же был организован торжественный обед, за которым старшины получили юбилейные кружки и гостинцы в шёлковых платках с портретами Николая II и царя Михаила Федоровича.
Представлялась царю и преподносила хлеб-соль и еврейская делегация во главе с самыми богатыми и почётными купцами — Гутманом, Домбеком и другими. Всем известно отношение главы “великой империи” к еврейскому населению, и совершенно непонятно было это представительство. Всё это я описываю более подробно, потому что сам был свидетелем, смотря на всё происходящее в губернаторском саду с соседнего двора Яковлева.
После приёма и торжественного обеда царь с дочерьми посетили новую больницу Красного креста, приняв участие в её открытии, а также губернскую земскую выставку. Царица же во второй половине дня посетила Богоявленский женский монастырь, где вместе со своей свекровью Марией Федоровной и фрейлинами, А. Вырубовой и другими, пробыла несколько часов и приняла участие в торжественной трапезе в покоях игуменьи Анны (бывшей княжны).
Костромичи все сумели принять какое-то участие в этих торжествах, в большинстве своём, хотя бы как пассивные зрители, а вот крестьянам, даже из ближних деревень, это удалось очень немногим. Для крестьян, желавших принять участие в торжествах, было устроено народное гулянье в первый день празднования в районе циклодрома, на территории, занятой в настоящее время областной больницей. (…) Кстати сказать, гулянье полностью не удалось из-за грозы и проливного дождя. С наступлением темноты город был иллюминирован расстановкой по тумбам плошек с горящим маслом, зажигались цветные фонарики, жгли фейерверки.
К вечеру второго дня костромичи провожали гостей. Под звон колоколов, звуки духовых оркестров, салют артиллерийских орудий и крики “ура” флотилия, эскортируемая катерами речной инспекции, вышла вверх по Волге в Ярославль. (…) Костромичи, проводив гостей, постепенно стали убирать всё праздничное убранство, за исключением выставки, которая функционировала до поздней осени. Жизнь древнего волжского города вошла в свою обычную колею, до новых испытаний, которые были уже не за горами.
Большое впечатление в сознании многих костромичей оставило это редкое событие. Каждый оценивал его по-своему. Много было довольных, обласканных и оценённых. Вот, благодаря юбилею, протоиерей о. Алексей Андроников получил орден св. Анны I степени и одел через плечо орденскую ленту, полицмейстер Волонцевич и его заместитель Красовский были “пожалованы” именными золотыми часами с императорским гербом, а начальница епархиального женского училища Любовь Ивановна Поспелова в течение нескольких лет никому не подавала руки, говоря: “Её жал Государь-император”, и очень кичилась золотым жетоном и юбилейной медалью. Да, таких было много, но, в основном, руководящие лица, дворянство, деревенская верхушка.
(…)
То ли моё страстное желание поскорее покончить с гимназией и идти на военную службу было причиной, то ли я умственно созрел для преодоления гимназического курса, но, начиная с четвёртого класса, где я просидел два года, моя успеваемость стала иной. Очень важно, что я теснее сдружился с товарищами по классу, чем это было в тех коллективах, от которых волею судеб я отстал в своё время. Сначала я стал средним учеником, а потом попал в разряд хороших по успеваемости и отличных по поведению. Этих успехов я уже более не снижал до окончания всего гимназического курса. Никаких репетиторов мне уже не требовалось, наоборот, я сам стал помогать отстающим товарищам, но только по гуманитарным предметам, так как математика и в то время оставалась для меня “камнем преткновения”.
С Борисом Шамониным мы расстались друзьями. С того времени я у него больше не бывал. Он же изредка забегал к нам, покурить и призанять у мамы рублишко-другой на перевёртку, причём с долгами всегда расплачивался по-честному.
Быстро прошла зима 1913-1914 учебного года. Весной я успешно перешёл в шестой класс, а Володя — в седьмой. В это лето Слава Василевский приехал из Ярославского кадетского корпуса с нерадостной вестью — его оттуда исключили за поведение, и он решил с осени поступить в 6 класс Костромского реального училища. Очень слабо учился в 4-м классе нашей гимназии Карлуша Моргенфельд, а ещё хуже во 2-й мужской гимназии одолевал курс Фридрих Ладе, которого родители решили со следующего учебного года перевести в городское училище, чтобы он по окончании его мог устроиться писцом в какую-нибудь управу или контору.
В это лето мы познакомились с весьма интересным учеником реального училища Володей Вешняковым; он по какой-то причине не жил с родителями, богатыми помещиками, проживавшими в каком-то дальнем лесном уезде, а переехал в Кострому к не менее богатому деду — лесопромышленнику и владельцу многих десятин земли Кузнецову, имевшему большой деревянный дом на Никитской улице, №5. Долгие годы часть этого дома он сдавал, как отдельную квартиру со всеми удобствами, вице-губернатору. В то время асфальтированный тротуар и мощёная мостовая доходили только до этого дома. Вице-губернаторы менялись очень часто, и эта квартира всегда была к услугам вновь прибывшего. Боковое крыло этого дома было квартирой деда с его многочисленными прислужниками.
Владимир был любимцем и баловнем своего деда. Карманные деньги у него были в почти неограниченном количестве, и он сорил ими направо и налево. При каких обстоятельствах мы с ним познакомились, я не помню, но тесная дружба завязалась после того, как он купил у нас пару голубей. Видя, что в голубях он ничего не понимает, мы втридорога продали ему красивых ублюдков, выдав их за высокопородных турманов. Мы же помогли ему оборудовать голубятню во втором этаже оригинального сарая с террасой-балконом, окружённой барьером из точёных балясин. Таких сараев с каретниками и конюшнями в настоящее время уже не делают, и он недавно за ветхостью был заменён стандартным, тесовым.
Своими манерами держаться в обществе, развязностью, донжуанством и хвастовством Володя Вешняков очень напоминал Бориса Шамонина. Он так же любил казаться старше своего возраста, так же хвастал своими победами у девушек и женщин, но он не курил и никогда не пил вина. Ухаживать за гимназистками и прочими молодыми девушками он любил и умел. Меня всегда удивляла его развязность и смелость в обращении с лицами другого пола. В этом я ему всегда завидовал. Ему, например, ничего не стоило заговорить с незнакомыми девушками на бульваре, на улице или в каком-нибудь ещё общественном месте. Он умело представлялся и через час чувствовал себя среди новых знакомых старым другом, а на другой день мог их не узнать и даже не поздороваться.
Благодаря ему, мы с братом Володей и Карлушей Моргенфельдом стали похаживать на бульвар и в другие места общественных гуляний и при его содействии начали знакомиться с девушками, преимущественно гимназистками, но у нас не было умения ухаживать и мы не имели нужного такта, чтобы быть интересными кавалерами. Мы были скучны для тех веселящихся, разбитных, а порой и ищущих приключений девиц — аборигенов общественных гуляний и танцевальных вечеров. Самое же главное — мы не имели таких денег, чтобы приглашать девушек в кино, покататься на лодках или угостить их мороженым, конфетами, фруктами. Володя Вешняков имел эту возможность и часто выручал нас. Как мотылёк, порхал он от одной компании девушек к другой, везде умел создать веселье, а к вечеру обязательно уединялся куда-нибудь в укромное местечко с избранницей своего сердца. Кстати сказать, уже в эти юношеские годы он не имел привязанности и серьёзного чувства ни к одной девушке. Эта черта его темперамента осталась у него и тогда, когда он превратился в известного заслуженного артиста Нельского Владимира Николаевича, если не считать его увлечения на одном отрезке времени маленькими собачками-болонкаи и канарейками.
Мы часто ходили к Володе на Никитскую улицу смотреть его всегда новых голубей, которых он с нашей лёгкой руки покупал по высокой цене у известных в то время крупных голубятников — как старичок, зубной врач Константин Африканович Полюхов, проживавший на Русиной улице, торговец швейными машинами и велосипедами Демме Людвиг Федорович, проживавший на Пастуховской улице, провизор Венцкевич с Сенной площади, и многих других. Он никогда не жалел, если голуби у него улетали, так как вместо них он покупал новых и более ценных.
В доме у его дедушки в то время проживал вице-губернатор граф Борх. Это был красивый высокий мужчина, лет сорока, с небольшой чёрной бородкой, расчёсанной на две стороны. Он был женат на ещё моложавой дамочке, которую звали Мария Павловна. Ей в то время было не более 25 лет, а может быть и меньше. Это была живая по натуре женщина, но скучающая от одиночества и безделья, так как муж её день и вечер был на работе. Володя был хорошо знаком с ней, а потом познакомил и меня. Мы частенько днём заходили к графине и своим присутствием кое-как её развлекали. Она много рассказывала нам о светской петербургской жизни, об интригах, о придворных балах, о гвардейских офицерах и прочее. Она учила нас манерам аристократического общества, играла на рояле, иногда пела, показывала фамильные альбомы, втроём мы играли в домино, в карты, в “флирт цветов” и прочие тихие игры. Как это всегда бывает у мальчишек в возрасте 16-17 лет, мы воображали себя влюблёнными в Марию Павловну, а её кокетство каждый из нас старался отнести на свой счёт. Володе казалось, что она проявляет особую благосклонность к нему, а я всё приписывал себе. В общем, мы оба были вполне удовлетворены. Брат Володя и другие приятели с Марией Павловной знакомы не были. После нового графа назначили губернатором в какую-то далёкую губернию, и наша дружба с Марией Павловной прекратилась навсегда.
***
Ещё в 1912 году левую нижнюю квартиру сняли у нас Нестеровы. Они приехали к нам с Ильинской улицы, где у них, видимо, было какое-то торговое предприятие. Доказательством тому служили привезённые во двор остеклённые витрины, стойки и буфеты, окрашенные в белый цвет. Должно быть, у Нестеровых была булочная, которая себя не оправдала, и её пришлось ликвидировать. Было известно, что глава этого многочисленного семейства, Дмитрий Александрович, был ранее заведующим пивным складом “Корнеев и Горшанов”. Всё хозяйство этой семьи находилось в руках Александры Алексеевны, полной энергичной женщины, в возрасте около сорока лет. Всего детей у Нестеровых было шесть человек. Старшая дочь Мария уже в то время была замужем и проживала где-то в другом городе. При родителях же находились дочери Лидия, Вера, Римма и Капитолина, сын Владимир обучался в московском Алексеевском военном училище. Самой младшей дочери Капитолине в то время было около 16-ти лет, она училась в женском городском училище. Вера была в последних классах Григоровской гимназии; чем занимались в то время Лидия и Римма, я забыл. Затрудняюсь сказать, на какие средства существовало это семейство, но они материально жили довольно неплохо. Неутомимая, постоянная хлопотунья Александра Алексеевна при помощи не совсем умной прислуги Лизы, помимо своей семьи, имела ещё трёх постоянных нахлебников, молодых людей, двух братьев Лобовских — Сергея и Виктора Васильевичей — и Малинина Дмитрия, или попросту “Митяя”, как его звали в этой семье.
Очень интересен и оригинален был Сергей Васильевич Лобовский. В то время ему было около тридцати лет. Он был выше среднего роста, носил пышные, длинные волосы, лицо, вопреки моде того времени, гладко брил. В тёплое время года очень любил ходить в модной в то время чёрной суконной крылатке. Своим видом он напоминал молодого учёного или артиста. Его младший брат Виктор был небольшого роста, рыжеватый, особо ничем не выделяющийся, за исключением того, что любил покутить, иногда на несколько дней запивал и в эти дни выказывал свой буйный характер. Митя Малинин был приблизительно того же возраста, как и братья Лобовские, но он отличался тем, что никогда не имел денег, даже на покупку самой необходимой одежды. Он был кругом в долгах, одевался бедно и неряшливо. Появлявшиеся деньжонки он тут же “прогуливал”. Нестеровы по отношению к нему проявляли опекунскую заботу, оберегая его от полного падения на социальное дно. Все трое работали в редакции местной газеты “Поволжский вестник”. У Лидии был серьёзный роман с Сергеем, а у Веры — с Виктором.
Таким образом, ко второй половине 1914-го года в нашем доме проживали следующие квартиросъёмщики. После выезда семейства Михиных в свой дом на Русину улицу, в самую большую квартиру переехали Моргенфельды, а их квартиру заняли Даманские. В левой квартире, на нижнем этаже, жили Нестеровы, а в правой нижней — как-то получилось, что квартиросъёмщики очень часто менялись, и кто проживал в то время, сказать затрудняюсь. Мы жили во флигеле. Вот в таком окружении жильцов нас и застала первая империалистическая война.
В ночь на 1-е августа старого стиля 1914 года по всему городу был расклеен Высочайший манифест о начале войны с Германией, вероломно напавшей на наше государство и поработившей славянские народы на Балканах. Народ призывался грудью встать на защиту веры, царя и отечества и освободить от порабощения братьев-славян. Одновременно с манифестом были расклеены приказы костромского воинского начальника о призыве по мобилизации на действительную военную службу нескольких возрастов нижних чинов запаса и всех возрастов запасных офицеров и военных чиновников, а также объявлялся набор в армию лошадей и транспортных средств.
С раннего утра мобилизационная машина уже заработала на полном ходу. Прежде всего, в ту же ночь экстренно были опечатаны все винные склады, казённые винные лавки, пивные и все предприятия, связанные с продажей спиртных напитков. Для некоторых категорий людей это мероприятие оказалось роковым. Так, распалась корпорация “зимогоров”, которых объединял в один коллектив исключительно алкоголь. В первые же дни “сухого закона” было отмечено несколько случаев скоропостижных смертей привычных алкоголиков, не имевших возможности поддержать сердце “опохмелкой”. Было много случаев отравления спиртовыми лаками, политурами, одеколонами и прочими суррогатами спиртных напитков. Только самая верхушка костромского общества имела какой-то доступ к запретному, и, кажется, без всякого ограничения.
Мне помнится, капитан Даманский, зная о нашем знакомстве с заведующим казённой лавкой Ладе, обратился к маме с просьбой достать хотя бы немного водки, которую он любил выпивать перед обедом по 1-2 рюмки, но мама не смогла этого сделать, так как Георгий Христианович сказал, что даже себе он не успел ничего взять, так быстро и под строжайшим контролем всё было опечатано.
Неузнаваемо изменился облик города всего за один день. У всех появилась какая-то озабоченность, суетливость, беготня, неудержимое любопытство побольше всего узнать. Кончился медлительный ход жизни волжского города, исчезли привычные скука, неудовлетворённость, хандра.
По городу открылись призывные пункты, куда со всех концов уезда потянулись призывники-лапотники, для этого случая особенно бедно одетые, так как знали, что собственная одежда будет заменена на военную шинель. За спинами некоторых призывников висели заплатанные мешки — “сидора”, с сухарями и немудрёным солдатским скарбом. Призывников сопровождали родители, жёны и даже дети. Из особого уважения к призывникам мешки несли родители или жёны. Городские призывники шли на те же призывные пункты, но почему-то сторонились крестьян.
Монархические организации и правые партии в первый же день начали организовывать патриотические манифестации, которые с иконами, царскими портретами, с флагами и патриотическими лозунгами маршировали по улицам города с пеньем гимна “Боже, царя храни!” и прочими патриотическими песнями. На площади, у здания городской управы и около памятника Ивану Сусанину, стихийно возникали митинги всё с теми же призывами, которые были указаны в манифесте. Во всех церквях города служились молебны о даровании победы “христолюбивому русскому воинству”.
Туговато приходилось домовладельцам, которые не освобождались от постоя мобилизованных, так как они обязывались обеспечить на некоторое время помещением и обслуживанием какую-то партию призывников. Мы от этого постоя освобождались, так как в нашем домовладении проживал офицер.
Бойко торговали трактиры, чайные и заезжие дворы, где проводили последние часы призывники со своими родными. Владельцы, пользуясь случаем, много посбывали залежалых селёдок, колбасы и сыру; баранки же были всегда свежие и пользовались большим спросом. Пьяных почти не встречалось, но женских слёз и истерических криков было в изобилии.
В первые дни войны мы ещё не учились, а поэтому имели очень много свободного времени, чтобы везде побывать и всё повидать Меня особенно тянуло на Сенную площадь, где военно-ремонтные комиссии мобилизовали конный состав. В те времена было из чего выбирать. Выводились из барских и помещичьих усадеб и частных конных заводов породистые лошади, зажиточные крестьяне сдавали также коней неплохого качества. Армии требовалось очень большое количество лошадей, так как никакой автотяги в те времена не было даже в артиллерии.
***
С первых же дней войны стали печататься официальные бюллетени и телеграммы о ходе военных действий на фронтах. В них больше говорилось о наших победах, о поражении и отступлении вражеских войск, с большими потерями в людской силе и технике. А в то же время в городе срочно очищались и переоборудовались помещения больниц, некоторых школ и прочих зданий под военные лазареты, как в то время называли госпитали. Новая больница Красный крест, частная водолечебница, духовное училище на Козьмодемьянской улице*, училище слепых и некоторые другие крупные здания переоборудовались под лазареты в первую очередь.
Пултусский полк в течение двух суток, пополнившись запасными и развернувшись по штату военного времени, выбыл на фронт, оставив для формирования маршевых рот штаб будущего 88-го пехотного запасного полка. К нам в гимназию вместо ушедшего на фронт Репина, получившего чин подполковника, для преподавания военного дела был назначен подполковник Слободов, оставшийся в штабе запасного полка. Наш квартиросъёмщик В.А. Даманский, также получивший чин подполковника и батальон в командование, выбыл на фронт.
(…)
Общество “Красный крест” организовало краткосрочные курсы сестёр милосердия. Благодаря патриотическому подъёму в первое время желающих обучаться на этих курсах было очень много. Форма сестры милосердия стала скоро очень модной, и её носили не только при исполнении служебных обязанностей, а повседневно. Даже ходили в ней в гости и на вечера. Она состояла из светло-серого длинного закрытого платья, белого фартука с красным крестом на груди, белой повязки с крестом на левом рукаве и белой же косынки, кокетливо одеваемой под булавку.
Скоро в местной газете “Поволжский вестник”, а также в специальных объявлениях, развешиваемых в городе, стали появляться призывы вступать в действующую армию добровольцами-вольноопределяющимися, а также открылся приём на ускоренный курс в военные училища всех родов войск и во вновь открываемые школы прапорщиков. Срок обучения в военных учебных заведениях был установлен 4 и 6 месяцев, в зависимости от рода войск. Желающих за столь короткий срок получить офицерское звание в первые два года войны было много.
В первую же военную осень различные добровольные общества, а также дамы-патронессы, в основном жёны и дочери высшего чиновничества, буржуазии, офицерши и даже жёны купцов, начали сбор средств на подарки воинам, организовывали с этой целью вечера, балы, карнавалы, гулянья и прочее. Некоторые женщины создавали артели по пошивке тёплых вещей, вязке носков, перчаток, шарфов и тому подобное. Был брошен клич к населению о сборе тёплых вещей, на что костромичи откликнулись очень охотно и продолжали помогать фронту до последних дней войны. Много посылалось индивидуальных посылок с подарками и тёплыми вещами.
Не прекращая коллекционирования еженедельных книжечек о похождениях различных сыщиков, с первых дней войны я аккуратно начал покупать номера еженедельного журнала “Огонёк”, в котором, помимо весьма наивных рассказов и повестей о героизме наших воинов, было отведено несколько страниц для фотографий отличившихся в боях, раненых и убитых офицеров и, реже, солдат. Для генералов была отведена специальная страница, где в виньетке, составленной из переплетённых вокруг лавровых веток георгиевских лент и украшенной регалиями и государственным гербом, размещались крупные фотографии русских полководцев того времени. Кроме “Огонька”, я покупал журналы “Родина”, “Нива” и “Пробуждение”. Они также были иллюстрированы.
В один из первых дней войны был призван на действительную военную службу Виктор Васильевич Лобовский. По просьбе родных его отпустили на сутки домой. Каким-то путём ему удалось достать чего-то спиртного. Изрядно выпив, он, воспылав патриотическим духом, выбежал на улицу и с криком: “Бей немецкое отродье!”, “Круши фрицев!”, употребляя при этом отборную брань, начал бить стёкла в квартире Моргенфельдов. Потребовалось вмешательство многих соседей-мужчин, чтобы связать и успокоить разгулявшегося призывника. В квартире Моргенфельдов оказались перебиты стёкла во всех окнах. Правда, на другой день они были вставлены за счёт Виктора Васильевича, который выразил глубочайшее сожаление по поводу этого прискорбного факта, но эта патриархальная семья оказалась не на шутку перепуганной, а старики Карл Христианович и Августа Карловна даже слегли на несколько дней в постель. Этот инцидент крепко врезался в нашу память, так как до этого времени на нашей тихой Ивановской улице подобных “побоищ” не бывало.
Все костромичи очень энергично готовились к встрече первых санитарных поездов с ранеными воинами. Своевременно были подготовлены лазареты с соответствующим штатом врачей, сестёр милосердия, санитаров и прочего обслуживающего персонала. Встречи первых военно-санитарных поездов были организованы весьма торжественно. Задолго до прихода поезда на вокзале, который в то время был за Волгой, собирались врачи, сёстры милосердия, санитары с носилками, подъезжали конные крытые санитарные повозки. Собирались представители городской администрации, дамы-патронессы, учащиеся. Обязательно выходил военный духовой оркестр.
Прибывшим раненым тут же дарили гостинцы, цветы и неизменные иконки. Тяжелораненых на носилках переносили до подвод, потом “братья милосердия” несли их до перевозного парохода “Горожанин”, заменившего собой допотопного “Бычкова”, и далее, на городской стороне, до лазарета. Некоторые легкораненые, по их просьбе, с помощью медицинских работников переходили сами. Приём раненых в лазаретах также был обставлен с большой пышностью и заботой, но со временем, как это всегда и бывает, патриотический пыл постепенно стал ослабевать. Большую активность в организации встреч раненых, в устройстве благотворительных вечеров, сборе различных пожертвований проявляли гимназисты, гимназистки, реалисты, семинаристы и техники Чижовского училища.

Служащие Чижовского училища. нач. XX в.
(…)
Телеграммы и бюллетени о ходе военных действий говорили о наших победах, о тысячах пленных немцев и австрийцев, о захвате нашими войсками таких-то и таких-то населённых пунктов, массы пушек, пулемётов, снарядов и военного имущества. В то же время в Кострому и прочие тыловые города ехали сотни семей беженцев из Польши и Прибалтийского края. За их счёт население города стало быстро расти, так что вскоре начал ощущаться недостаток жилой площади. Если до войны коренные костромичи почти все знали друг друга, то уже в первые месяцы мы каждый день встречали всё новых и новых людей. Чаще слышалась нерусская речь или сильный западный акцент.
Мы, учащаяся молодёжь, пока беспечно гуляли осенью на бульварах, а с наступлением зимы — на Русиной улице, ходя взад и вперёд от центра до Козьмодемьянской (Долматова) улицы и обратно, по левой стороне. Эта часть улицы была излюбленным местом для гулянья молодёжи. Там мы знакомились с девушками, в основном с учащимися. Гимназисты и реалисты пользовались большим вниманием и расположением, чем менее галантные семинаристы, техники Чижовского училища и прочие учащиеся.
Но вот и для нас настала пора уступить своё первенство на Русиной улице — появились “блестящие” прапорщики, в новенькой походной офицерской форме, сверкающие золотыми погонами, хрустящими кожаными ремнями портупеи и револьверной кобуры. Начищенная новенькая шашка была гордостью каждого юнца, облечённого в офицерскую форму. Некоторые, как например пулемётчики и артиллеристы, надевали ещё и шпоры. Вот это были действительно солидные соперники учащейся молодёжи, будущие герои, защитники отечества, и, кроме того, они всегда были при деньгах, которыми любили шикнуть, покупая для барышень-учащихся цветы, мороженое, билеты в кино и на многочисленные благотворительные вечера с танцами и аттракционами. Конечно, не многие учащиеся могли тягаться с военной молодёжью.

Леонид Колгушкин - учащийся 7 класса Костромской гимназии 1915 год
Как-то зимним вечером мы, гуляя небольшой компанией по Русиной улице, обратили внимание на трёх григоровских гимназисток. Все они были одинаково одеты в синие жакеты с белыми меховыми воротниками, с такой же опушкой и с белыми же меховыми муфтами. На головах также были белые меховые шапочки. Они на многих производили впечатление как своими одинаковыми оригинальными костюмами, так и тем, что две из них были похожи друг на друга как две капли воды. Зелёные форменные платья указывали на их учебное заведение. Вскоре мы узнали, что это три сестры Успенские. Старшая из них, Катя, была ростом выше сестёр, очень смуглая, черноглазая, с большим некрасивым носом. Младшие же, Зина и Лиза, были светлые шатенки с тёмными глазами и свежими, миленькими, девичьими личиками. Гуляя, они учились кокетничать, при этом в разговоре с мальчиками все вместе очень быстро говорили, за что их прозвали “пулемётами”. Кате в это время было около семнадцати лет, а сёстрам не более пятнадцати. Они понравились нам своей юностью, скромностью и неиспорченностью. Знакомств с военными они избегали. Нам очень захотелось с ними познакомиться, что и удалось через несколько дней.
(…)
Шла первая военная зима. Мы учились, гуляли на Русиной улице, катались на коньках на Козьмодемьянском пруду, куда в субботу и в воскресенье приходили сестры Успенские. Мы с ними подружились, встречались очень часто, но они долгое время не хотели сказать своего домашнего адреса. Мы их провожали всегда не дальше начала Рождественской* улицы. Первое время я начал увлекаться Катей, но потом, вскоре, переключился на Зину, и этот роман, как мы узнаем позднее, продолжался несколько лет.
За первый год войны много знакомых было призвано на военную службу. Был мобилизован и наш зять — Дмитрий Михайлович Соколовский. Несколько месяцев он обучался как солдат, живя в общих Мичуринских казармах, дожидаясь направления в школу прапорщиков. По воскресеньям и праздничным дням его отпускали к нам. С момента объявления войны их странствования по России закончились, и Женя поступила опять на работу в Губернскую управу.
Вскоре его направили в одну из московских школ прапорщиков, находящуюся в районе Лефортова. В Костроме по военному ведомству началось строительство военных бараков на Еленинской улице, недалеко от Мичуринских казарм, и на Мясницкой, не доходя до бойни.
В начале 1915 года в Кострому из Риги были эвакуированы металлообрабатывающий завод “Пло”, который был обоснован за Волгой, около села Селища и впоследствии был переименован в завод “Рабочий металлист”, а также каблучно-гвоздильный завод Раабе, который разместили в Нерехте.
Из Гродно был эвакуирован крупный госпиталь, который сначала поместили в здании 1-й мужской гимназии, переведя гимназистов для обучения во вторую смену в здание Григоровской женской гимназии на Пятницкой улице, а вскоре этот госпиталь, из-за большого поступления раненых, занял и соседнее помещение епархиального женского училища, которому пришлось потесниться в одно крыло здания и в деревянное здание на Ивановской улице.
Недолго гуляли молодые выпускники военных училищ и школ прапорщиков. Не дольше, чем через один-два месяца они отправлялись маршевыми ротами на фронты великой войны, охватывающей все страны и превращавшейся в мировую, а при том и затяжную войну. На место уходящих в огромную мясорубку из огня и железа, как из рога изобилия, сыпались все новые и новые кадры, но качество их медленно, но неуклонно менялось. В первые месяцы войны в Костроме, как и в других городах, первыми появились очень молодые прапорщики, досрочно выпущенные из кадрового состава военных училищ, а потом приезжали более солидные прапорщики, нередко с университетским и институтскими значками, из числа вольноопределяющихся запаса и различных льготников. После них состав выпускников менялся уже в худшую сторону: пошли возрастом моложе, а образованием меньше. Например, начал практиковаться прием в школы прапорщиков и даже в некоторые провинциальные военные училища “зеленой молодежи” из числа выходящих до окончания курса средних учебных заведений; а из рядов действующей армии и из числа вольноопределяющихся в школы прапорщиков направляли и с 4-х летним образованием.
Воспользовавшись такой льготой, Слава Василевский, не окончив реального училища, поступил в Чугуевское военное училище.
Мне, как и многим учащимся старшего возраста, очень хотелось скорее преобразить себя в облик военного, тем более, я знал, что брат Володя кончает гимназию на год ранее меня, а следовательно, и ранее поступит в армию.
Больше же всех хотелось стать прапорщиком Карлуше Моргенфельду, но затруднение было в том, что он учился всего только в пятом классе, а, главное, его родители и сестры категорически возражали против службы Карлуши, готовя его с детства к музыкальной деятельности. Они видели у него выдающийся талант незаурядного музыканта и всеми фибрами души желали в его лице видеть нового Бетховена.
Мне же запало в голову помочь ему в устройстве на военную службу — сначала вольноопределяющимся 2-го разряда, а оттуда и в школу прапорщиков. Что меня толкнуло на это дело, я до сих пор не могу объяснить, но своим упорством я добился исполнения своего желания наполовину, а жизнь Карлуши испортил на все сто процентов.
Лично я, тайком от его родителей, водил Карлушу в управление воинского начальника, неоднократно разговаривал с “богом и царем” этого управления — делопроизводителем Бровиным, у помощника полицмейстера Красовского получил для него справку о политической благонадежности и, к общему удивлению и большому горю родственников, превратил Карлушу в вольноопределяющегося второго разряда 88 пехотного запасного полка, а дальше… Вот дальше-то и оказались неприятности, непредвиденные и необоримые трудности, испортившие Карлуше всю жизнь, а пока он, как лермонтовский Грушницкий, гордился своей солдатской шинелью с походными погонами вольноопределяющегося.
Вскоре были отстроены бараки на Мясницкой улице, и туда пришел из города Карачаева 202 пехотный запасной полк, созданный на базе какого-то штрафного батальона сибирских стрелков. Количество военных в Костроме все прибывало и прибывало, а наскоро сформированные маршевые роты все шли и шли в западном направлении в неведомую даль.
Как сейчас помню бородатых запасных солдат, одетых в широкие, нескладные военные шинели, или со скатками через плечо, с заплечными мешками, полевыми сумками, неизменными походными лопатками и бессрочными медными котелками. Все было выдано будущим фронтовикам, за исключением оружия, которого уже в 1915 году не хватало, да и, видимо, начальство начинало побаиваться вооружать в тылу; эти мужчины в солдатских шинелях шли под командой безусых мальчишек-прапорщиков, рисовавшихся своим положением перед провожавшими их девицами.
В промежутке между игрой духового оркестра запасного полка они заставляли пожилых людей, у которых кошки скребли на сердце, петь нескладные, глупые песни, вроде: “Соловей, соловей, пташечка, канареечка…” или: “Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать…”, а те не могли ослушаться, пели, а слезы невольно текли по небритым щекам.
Сбоку рот всегда бежали бедно одетые и обутые в лапти жены, отцы, матери и дети, провожая в неизвестность иногда единственного кормильца, не зная, увидят ли его когда-нибудь. Провожающие причитали, плача навзрыд, сморкаясь, вытирая глаза и носы нечистыми рукавами или углами головных платков.
Подходя к Молочной горе и поравнявшись с розовой часовней, одиноко стоявшей в то время как раз против Молочной горы*, у конца военного плаца, все солдаты, как по команде, обнажали свои остриженные головы, истово крестясь, должно быть, моля Бога о скором и благополучном возвращении к родному очагу, а может быть, прося “Всеблагого и Всемилостивейшего” сохранить в живых родных и детей, не дав им погибнуть с голоду.
До ледостава маршевые роты грузили на паром, и неизменный перевозочный паром “Горожанин”, отвалив от пристани, всю дорогу оглашал воздух короткими прерывистыми гудками, а в унисон ему печально играл духовой оркестр.
Все это, вместе взятое, еще более натягивало нервы как отъезжающим, так и провожающим, а там погрузка в теплушки и последнее прости. Картина провод была далеко не радостной.
Многие сложили свои головы “безвестными героями” где-нибудь в Мазурских и Пинских болотах, под стенами Перемышля, в Австрии, в Карпатах и прочее, а боги войны Марс или Молох, требовали все более и более жертв.
Правительству и его пособникам нужно было поднимать дух народа, не допускать затухание патриотизма. Досужие, скороспелые писаки сочиняли довольно наивные, нехудожественные и малоправдоподобные песенки о “юном прапорщике”, спасающем знамя полка и погибающем в неравном бою с врагом, о сестре милосердия, ценою собственной жизни спасающей офицера, о полковом священнике, с крестом в руке поднявшем роту в атаку и захватившем важный стратегический пункт обороны противника.
А сколько рассказов, новелл и повестей о русском героизме печаталось во всех периодических журналах. Но мало воспевали истинный героизм “серого героя”, возвеличивая офицеров, военных врачей, полковых священников и сестер милосердия. Популярней же всех оказались рассказы о беспримерном геройстве донского казака Кузьмы Крючкова, который, возвращаясь из глубокой рискованной разведки, один приводил целые подразделения пленных австрийцев и немцев. Кузьма Крючков в начале войны не сходил с языка на фронте и в тылу.
(…)
В эту войну, безусловно, были истинные герои, по-русски сражавшиеся за Родину и не щадившие своей жизни, но, чаще всего, они оставались в безвестности, удовлетворившись солдатскими знаками отличия ордена святого Георгия Победоносца.
Даже не отличившиеся, но вышедшие невредимыми из этой мясорубки, должны были считать себя счастливцами. А сколько инвалидов, вовсе нетрудоспособных и ограниченных в труде дала Первая мировая война! Как бы не был искалечен человек, но все же он радовался тому, что остался жив. Придя домой и став иждивенцем, он в городе, а особенно в деревне, видел упадок хозяйства и почти разорение. Грошовая пенсия при полной инвалидности не могла быть подмогой в хозяйстве; он больше и больше чувствовал себя иждивенцем и лишним в семье. Это его озлобляло против власти, против всего, что помешало его нормальной жизни.
1915 год, как это всегда бывает в военные годы, внес изменения в жизнь нашего небольшого семейства, а также изменил условия жизни наших знакомых и вообще окружающих нас людей.
Дмитрий Михайлович Соколовский, окончив школу прапорщиков и получив офицерское звание, был направлен в 88 пехотный запасный полк. Вскоре он зарекомендовал себя как один из авторитетных офицеров — честный, чуткий, глубоко и искренне уважаемый солдатами и передовыми офицерами. Как социалист, он гуманно подходил к каждому солдату и даже отказался от офицерской привилегии иметь до отправки на фронт денщика. Он не хотел, чтобы кто-нибудь его обслуживал, когда все он может выполнять сам. Они с женой решили хотя бы недолго пожить отдельно, для чего сняли комнату во втором квартале Еленинской улицы, где и прожили около двух месяцев, до ухода Дмитрия Михайловича на фронт в качестве командира маршевой роты. На передовой позиции под свое командование он получил батальон, а через три месяца — чин подпоручика и красную ленточку на темляк шашки (орден св. Анны 4-й степени). На передовой позиции в те времена офицерские очередные чины давались через три-четыре месяца, а красный темляк — после первого боя.
Жизнь сестры Жени шла на службе в Губернской управе и в переписке со своим фронтовиком. Дмитрий Михайлович всегда слал ласковые, успокоительные письма и никогда не писал об опасностях. Уезжая на фронт, Дмитрий Михайлович подобрал из своей роты вестового, такого же, как и он, скромного и честного мужчину, своего земляка, кинешемца.
А что же случилось с Карлушей Моргенфельдом? Непредвиденным препятствием для направления его в школу прапорщиков послужила его принадлежность к немецкой нации. Никакие хлопоты со стороны родителей, воинской части и даже воинского начальника не помогли, и его пришлось зачислить в очередную маршевую роту, с которой он и ушел на фронт, где через некоторое время, как специалист, был зачислен в духовой оркестр воинской части, в котором и находился до конца войны.
Фридрих Ладе также в конце 1915 года по призыву рядовым ушел на фронт. Таким образом, наша дружба с ними прервалась, и, как мы узнаем позднее, — навсегда.
Среди жильцов нашего дома также произошли некоторые изменения. Семейство Нестеровых уехало от нас куда-то на Власьевскую улицу, а их квартиру заняла большая семья из Минска — судейского работника Ушакова. Глава семьи, Владимир Михайлович, получил должность товарища прокурора, а его супруга, Елизавета Александровна, устроилась сестрой милосердия в городскую больницу на Русиной улице. Их дети-погодки, в количестве пяти человек: Миша, Лева, Таня, Надя и Шура, или “Пудик”, как его звали в семье, почти все были младшего школьного возраста. Вот это была действительно “веселая” семейка. Все, начиная от главы семейства Владимира Михайловича и кончая Надеждой, были до предела нервные люди. “Пудик” представлял исключение. Можно привести хотя бы один, часто повторяющийся, пример этой “веселости”. Как только Владимир Михайлович являлся со службы и все садились за обед, достаточно было малейшего нарушения порядка со стороны кого бы то ни было, как отец вскакивал из-за стола, начинал кричать в полный голос и гнать всех из дома. Все бегали по комнатам, пока не оказывались на кухне или на улице. Много помогала шуму Елизавета Александровна, которая не успокаивала, а своими язвительными репликами подливала масла в огонь. Вскоре гнев остывал, нарушитель порядка просил у отца извинения, и обед продолжался. Мы были свидетелями подобных инцидентов почти ежедневно, но не обязательно во время пищевых процедур, а иногда поздним вечером и даже в ночное время. Надо сказать, что Владимир Михайлович был весьма интеллигентным человеком, с окружающими и на работе был исключительно вежлив и предупредителен, вина никогда не пил, покуривал, был примерным семьянином, жену и детей очень любил, а вспышки гнева происходили у него, видимо, как симптом психического заболевания на почве тяжелой наследственности.
***
Уже в 1915 году начали сказываться трудности военного времени. В 1914 году в губерниях верхней Волги, в том числе и Костромской, получился неурожай хлебов и трав, а отсюда создались трудности с продовольствием, а в особенности, с кормами для скота. Крестьяне вынуждены были сбывать свой скот за бесценок, а этим пользовались мясники, прасолы и всевозможные спекулянты, получая огромные барыши за счет разорения крестьянских хозяйств.
Фабрики и заводы Костромы начали чувствовать топливный голод, дров не хватало, а каменного угля не было вовсе, так как до войны его в основном привозили из-за границы. Лесопромышленники и владельцы лесных угодий, воспользовавшись создавшимися трудностями, из-за наживы начали хищнически вырубать леса вокруг города и в то же время взвинчивать цены на дрова, строй- и пиломатериалы.
В городе впервые начали образовываться очереди за дефицитными предметами первой необходимости (мыло, соль, спички, керосин, табак и некоторые промтовары), а все это стало порождать спекуляцию, о чем раньше костромичи и понятия не имели.
Не плошали и предприниматели по части спиртного — начались изготовление и тайная торговля “ханжой”, как тогда называли самогонку. Это был в то время самый ходовой товар, который разорял и отравлял одних и, в то же время, обогащал других. В особенности в нем нуждались военные, в частности офицеры, которым благодаря ханже не приходилось часто обращаться к врачам за получением рецептов на спирт “для компрессов” или на кагор от заболевания кишечника.

Леонид Колгушкин - прапорщик 202-го пехотного запасного полка в Костроме 1917 года
Действующая армия нуждалась в постоянном пополнении, но патриотический подъем начал спадать, добровольцев уже не было. Пришлось прибегать к мобилизации более старших возрастов. Вскоре призывной возраст был установлен в пределах от 18 до 50 лет. Для поступления в военные училища и школы прапорщиков образовательный ценз снизили до 6 классов, а в исключительных случаях фронтовиков зачисляли в школы прапорщиков даже с 4-х летним образованием. Командный состав армии молодел, а рядовой становился все старше и старше. Маршевые роты формировались из солдат различного возраста, положения, боевого опыта, здоровья и политических убеждений. В маршевики, помимо зеленой молодежи, попадали старики — участники Японской войны, бывшие раненые из команд выздоравливающих, различные законные и незаконные льготники, “маменькины сынки”, отсиживавшиеся дома “по состоянию здоровья”, штрафники и бывшие арестанты. Вот таким разношерстным людским контингентом приходилось командовать желторотым птенцам, порой малокультурным и невыдержанным, в то же время облеченным чуть ли не неограниченной властью над солдатами. Такие командиры сплошь и рядом допускали грубое, нетактичное и даже хамское обращение со стариками, ратниками ополчения, и даже с бывалыми боевыми солдатами, что создавало непримиримый антагонизм между офицерством и солдатской массой.
Неутешительные вести шли и из действующей армии, где также начинался ропот и возмущение среди фронтовиков. Все стали уставать от этого бесцельного сидения в грязных, холодных окопах, где начали распространяться вши, тиф и прочие инфекционные болезни. Вместе с ранеными вшивость, сыпной, возвратный и брюшной тиф дошли и до нашей Костромы.
На фронтах и в тылу начали поговаривать об измене среди высшего командования и даже подозревали в ней саму императрицу Александру Федоровну.
Дисциплина среди военных стала падать не только на фронте, но и в таком далеком тылу, каким была Кострома. Прапорщики и прочие офицеры кутили, упиваясь самогоном, играли в картежные игры, развратничали, соблазняя девиц на краткосрочные браки. Многие заражались венерическими болезнями и заражали ими женщин. В обществе был нравственный упадок, еще более ощутимый, чем бывший после поражения революции 1905-1907 годов. Все ждали скорейшего окончания войны. Многих, более дальновидных, страшил начинающийся экономический упадок, а также оживление революционного движения, в особенности в крупных промышленных центрах.





