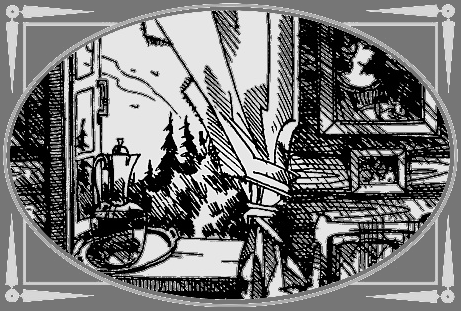
Готовцевская колокольня
Я помню, что на верхней полке спального вагона я, быть может, сплю, быть может – нет. Еду до Москвы, жду своей судьбы. Доберусь, может быть, до того часа, когда предстану на великом судилище, решение которого изменит русло моей жизненной речки, пробиравшейся между кочек и невысоких берегов, посылаемых мне судьбой. И среди кочек и невысоких берегов складывался я и вбирал в себя те впечатления, которые сделали меня не совсем нормальным человеком, то есть недовольным собой, недовольным окружающими, стремящимся черт его знает куда, задающим себе и другим дурацкие вопросы – почему, зачем, отчего, для чего?
Пока моя особа везется в Москву, я припоминаю все интересующее и интересовавшее меня с детского бытия. Припоминаю без особой системы. Система пришла потом, когда я попал – как кур во щи – в деловую жизнь, где приучал себя к дисциплине, к обязанностям, даже к долгу и прочим стеснительным обстоятельствам, которыми так богато такое проблематическое искусство, как актерское мастерство, в новичках. Об этом буду говорить потом, после того, как приеду в Москву, и после длинных часов тоски и великого ужаса получу право учиться театральному искусству.
После всего этого я буду говорить и о том, как, получив звание профессионала, предстал на суд уже не специалистов, а широкой публики, которая шикает, хлопает, смеется и плачет и которую надо заманить в западню, именуемую «феатром», и постараться так ее, публику, обработать, чтобы она как можно чаще стремилась в этот самый «феатр», а самое лучшее, если бы приспособилась и жить и умереть в нем. Если хватит моей жизни, я потом скажу, как замелькали годы один за другим, быстро-быстро, как понеслась в бешеном темпе жизнь, как средний возраст стал смахивать на что-то похожее на приближение старости, как этой старостью стало припахивать все сильнее и сильнее. Скажу о том, как незаметно, однажды жизнь вдруг ринулась в водопад революции и все полетело к чертям, завертелось и запрыгало в пенистых волнах стремительного потока.
Скажу обо всем этом, если хватит жизни, а пока я припоминаю без системы о том, что было до того, как я попал на верхнюю полку спального вагона.
Я припоминаю себя молодым, сильным, не чувствующим веса своего тела, не подозревающим о том, что у меня есть сердце, желудок, печень, почки, какое-то давление сосудов, презирающим разговор о том, что что-то вредно, что-то полезно, что-то называется излишеством, а что-то признается благоразумным. Все было на пользу, все было здорово. Каждое утро приносило сознание прибавления нового избытка сил, и каждый день звал за собою вдаль, где все новое и все интересное. А ночи? Ночами не хотелось спать, обидно было спать, ночи «читались» напролет или шли за всякой беседой, за чоканьем дружеских стаканов, в голубоватом дыму табака, в звуках громких песен – проходили так ночи и приводили за собой день. Были и поцелуи, и ласковые глазки, и ручки, и ножки, но об этом говорить особенно не собираюсь. Старое глупое воспитание мешает мне называть имена тех женщин, которые озаряли своей любовью мои юность и зрелый возраст и согрели подошедшую старость. Так я думаю. Думаю, что самым дорогим делиться ни с кем не надо…
Я доживаю в деревне каникулы. Я «проперся» на экзаменах по химии и, конечно, «пропрусь» на них и осенью. Второй год на первом курсе мне кажется вопросом настолько ясным, что я раздумываю только о том, ехать ли мне, из приличия, к осенним экзаменам в Дерпт или торжественно плюнуть на них и пробыть в деревне до начала сентября. Приличие берет верх, и я решаюсь в половине августа ехать в институт и пытать свою судьбу «на арапа». Мне остается еще недели три лона природы. Я ловлю рыбу, шляюсь с ружьем один или с неизменным Петром Павловичем и… читаю Густава Эмара и Вальтера Скотта – это мои жертвы. Гюго прочитан давно уже. «Собор Парижской Богоматери» и «Девяносто третий год» сидят во мне глубоко, целиком. Благодаря им я сознаю, что у меня есть мозг и сердце.
У нас летом много народу гостит. Дядя Дмитрий Николаевич с теткой Елизаветой Александровной и дочерью Лидией Дмитриевной, обладательницей великолепного голоса и пятилетнего сынишки Бори. Гостят кузины Сашенька, Андроника и Лиза, дочь дяди Вани. Гостит мой товарищ Сергеев и мой двоюродный брат Васенька Рябков. Бывает весело, бывает пение. Природа наградила меня недурным голосом, от которого ныне нет и воспоминания. Дуэты.
На террасе, когда старшие уходят спать, мы, молодежь, проводим время за разговорами, флиртом и пугаем друг друга страшными историями. Однажды, в лунную ночь, кузины поддели меня на очень глупое приключение. Какой-то дурацкой страшной историей я их так напугал, что одна, кажется Сашенька, разревелась. Конечно, мы, кавалеры, подняли их на смех и глумились над их трусостью. Разговор перешел на вопрос о храбрости. Мужская половина общества, конечно, утверждала, что трусость есть достояние слабого пола. Муж – это мужество, этим все сказано. Начался спор. Упоминали Жанну д’Арк и прочих храбрых женщин. Спор закончился вызовом испытать наше мужское мужество. Одна из кузин предложила кому-нибудь из нас подняться сейчас на колокольню, под самый крестик, в так называемый «фонарик», и положить туда на одно из окон, которых в фонарике существует четыре, гребенку одной из дам. Я моментально согласился на это испытание своей храбрости и, получив маленькую черепаховую гребенку, отправился на свой подвиг.
Пройдя двор, я вышел в темный сад, изрезанный лунными отсветами. Путь мой шел длинной рябиновой аллеей. Местами в ней было совсем темно, местами луна яркими пятнами пестрила песок дорожки. Капли росы бриллиантами висели на листьях кустов и рябин. Луна в них играла своим холодным блеском. Пройдя аллею, я вышел из сада и, перейдя узкую луговинку перед церковной сторожкой, брякнул, нарочно громко, щеколдой кладбищенской калитки. Этот металлический лязг громко раздался по саду и по кладбищу и под сводами колокольни.
В селе уже ни в одном окне не было света. Только луна заливала все своим мертвым сиянием, и серебрила кладбищенские кресты, стены церкви, и заставляла оконные стекла больших церковных окон теплиться своими неровностями. Колокольня высилась большая, белая, с черными дырами пролетов и круглых окон. Под аркой колокольни гулко прошли мои шаги. Скрипнула дверь, ведущая на лестницу, и, придерживаясь рукою за стену, я стал подниматься наверх. Один марш, другой, тоннель в толще стены. Коротенький третий марш, уже озаренный лунным отражением.
Я вышел на первый пролет. Окружающие громадные березы еще выше меня своими вершинами. Иду дальше. Опять темнота. Один марш. Справа зияет темнота казематов, в которых должны были помещаться, по плану Кондратия Федоровича, куранты. Прохожу еще один длинный марш и восхожу на второй пролет, в котором висят колокола. Посередине большой, в 427 пудов. Дальше висит поменьше, в 117 пудов, и еще 8 колоколов от восьмипудового до пятнадцатифунтового дискантика. Теперь вершины берез уже внизу. Сад кажется сверху курчавой шапкой. Садовые полянки залиты луной и изрезаны тенями. Все тихо, все спит – и село, и усадьба. Внизу, в долине Тёбзы, туманы разлились громадной широчайшей посеребренной рекой, и темные кущи деревьев, высовывающиеся из тумана, кажутся островами. Все тихо, все молчит и словно думает о чем-то.
Чтобы дать знать обществу на террасе, что я уже на колокольне, я бью сильно ладонью по большому колоколу, и довольно громкий, плачущий звук несется с высоты в молчание ночи. Я стою несколько минут, опершись на перила, и любуюсь лунной ночью, и слушаю шум водяной мельницы, который доносится до меня с реки на высоту, слушаю дыхание ночи. Надо исполнить свою задачу, и я лезу еще выше. Прохожу круглое окно, и не по лестнице, а по простой стремянке, сделанной из широкой доски, на которой вырезаны дырки для носка ноги. Я на самой высшей точке колокольни. С этой высоты чудеса ночи уже не поддаются описанию. Смотри, если умеешь смотреть, и чувствуй, если тебе дано природой чувствовать, и молчи, потому что все равно ничего путного не скажешь. Я положил на одно из окошек «фонарика», в котором сейчас находился, черепаховую гребенку. Еще раз окинул со своей высоты громадный горизонт и только решил было начать спуск, как вдруг!..
«Вдруг» – глупое слово. Ничего хорошего, умного, целесообразного «вдруг» не бывает. «Вдруг» происходят только глупости. И со мною произошла глупость. До этого момента я был просто самый смелый человек на свете, голова моя была занята только красотою ночи, и – вдруг – я испугался. Чего? Да ничего!
Почему-то я вдруг припомнил страшные рассказы про нашу колокольню, почему-то мне пришли в голову шляющиеся по кладбищу покойники, и по моим костям, мышцам пробежал и забегал холод страха, в моих мозгах, хотя и не осиливших химии, но все же ученых, случилось что-то такое «вдруг», что украшение моего черепа – светло-русые волосы – приподнялись вместе с фуражкой дюйма на два.
Взглянув в темноту колодца, в который мне предстояло спускаться, я ясно представил себе, что мои натянувшиеся нервы не выдержат ни малейшего шума. Стоит завозиться какому-нибудь стрижу или голубю или просто сорваться куску известки и запрыгать вниз по ступенькам лестницы, и я, потеряв всякое самообладание, стремглав помчусь вниз без дороги и пути. Я пробовал взять себя на вожжи благоразумия, то есть убедить себя в том, что никаких страшных историй с этой башней, сложенной из обыкновенного кирпича, быть не могло, что все эти истории – бабьи бредни, не более. Как я ни старался внушить себе, что в XIX веке не только глупо, но даже позорно допустить мысль, что по кладбищам могут шляться покойники, несмотря на эту работу благоразумия и всю убедительность знаний просвещенного девятнадцатого столетия, я чувствовал, что ни сил, ни мужества у меня нет для того, чтобы начать свое нисхождение в темноту колокольни, которая казалась мне наполненной какими-то шорохами, веяниями и поднимающимися во мне страхами.
Я вспомнил о спичках. Их в коробке было пять штук. Мало. Не хватит на длинную дорогу. А сквозняки? На каждом завороте лестницы, около курантов, в тоннеле, всюду сквозняки посреди лестниц. Я рискую остаться во власти своего сумасшествия. Папирос тоже оказалось немного. Три штуки. Закурю и помашу спичкой. Быть может, мои приятели, мужественные мужчины, на террасе увидят мой огонек и, прельстившись моей позицией, прибегут ко мне? Но никто не отозвался на мой сигнал и никто ко мне не пришел. Я употреблял всю оставшуюся силу воли, чтобы не завыть на все село, на весь сад, на всю волшебную ночь: «Караул!» Такого позора я допустить не мог. Я стал соображать, который теперь час. Пошел я, наверное, около одиннадцати, прошло времени не больше получаса. Начинает светать не раньше трех. Положение дурацкое.
Выкурив папиросу, я успокоился и сидел в фонарике под самым крестиком колокольни уже совершенно спокойно, но идти вниз не решался, так как при малейшей попытке с моей стороны к тому «вдруг» сразу откуда-то появлялось и фуражка приподнималась над головой дюйма на полтора. Вы знаете, что значит смысл фразы: «Медленно движется время». А я узнал это в совершенстве. Время не двигалось вперед, а положительно пятилось назад. Когда луна стала бледнеть, а горизонт на востоке белеть, а хвост Большой Медведицы над садом опустился книзу, я поверил, что скоро будет свет, но внутри колокольни все еще было набито египетской тьмой, как колбаса фаршем.
И только когда внутренность моей ночной тюрьмы стала сереть и яснеть, я дерзнул на свое позорное отступление. Я шел мимо всех знакомых уже закоулков и думал: что же тут могло быть страшного и чего же я мог бояться?
Спустившись вниз, я не пошел домой, а направился на мельницу, чтобы с первыми лучами солнца выкупаться и смыть с себя позор бесславной ночи. Да будут понятны мои слова в переносном, а не в буквальном смысле.
О своем бесчестии я, конечно, никому не сказал. Общество на террасе слышало мой шлепок по колоколу и, подивившись моей храбрости, не стало меня дожидаться, и все разошлись на боковую, решив, что я после колокольни отправился на мельницу.
Утром, до моего возвращения домой, кто-то из заинтересованных в споре, слазил на колокольню под крестик и удостоверился по гребеночке в том, что я ночью действительно был на колокольне.