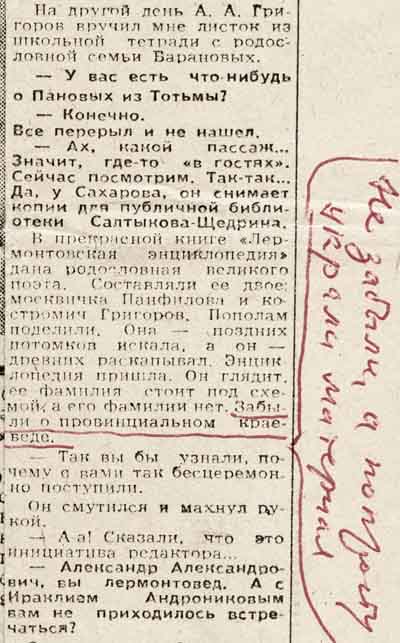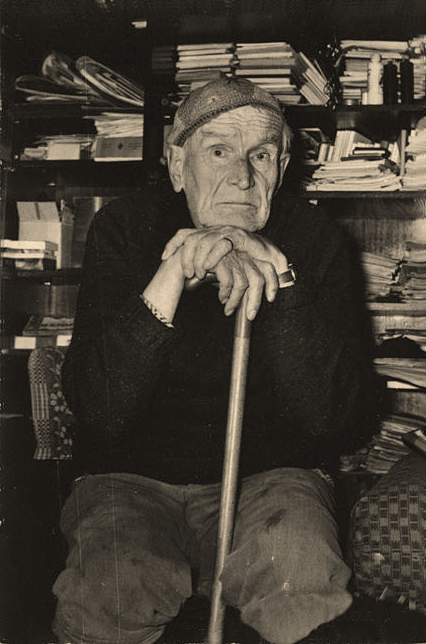А.А. Григоров

Город Кинешма. Вид на Нижний базар и Заречье
Автобиография (продолжение)
Первыми уехали наши «подданные» – горничная Аннушка и скотница Евфросинья Петровна. Они вернулись в наше Александровское, но наш дом сгорел в ноябре 1919 г. со всем в нём находившимся – библиотекой и другим имуществом, и возвратившиеся обосновались в соседней деревне, в доме нашей бывшей кухарки Аграфены, и там обе эти путешественницы скончались в том же году. Затем уехал дядя с горбатой тётушкою. Они обосновались у моей тётушки Марии Митрофановны Григоровой, работавшей зоотехником (по нынешней терминологии) в совхозе Издешково Смоленской губернии, где дядя тоже получил работу по специальности птицевода. Затем уехали мама с моим старшим братом и младшим Ваней. Мама обосновалась с Ваней в Кинешме, где тогда жила её сестра с мужем, а под самой Кинешмой жила её другая сестра с сыном и дочерью и мать – моя бабушка. Брат же Митрофан вернулся в Москву, где нашёл себе работу и получил специальность.
В Орловской Балке оставался я с сестрой, а семья дяди Виктора Ивановича, потерявшая в эти смутные годы своих сыновей, вернулась ещё в начале 1922 г. в Москву. В конце лета 1922 г. я демобилизовался (мы, служащие железной дороги, считались наравне с военнослужащими) и тоже решил возвратиться на родину. Приехав в родные места, я был удивлён тем сердечным, тёплым и прямотаки ласковым отношением к себе со стороны окружающего наше, уже «бывшее», Александровское населения. Везде – в каждой деревне, и на соседней бумажной фабрике – и поныне существующей Александровской фабрике – я был принимаем как желанный, дорогой гость.
В зиму 1922–23 гг. я устроился работать в контору химического завода «Шугаиха», в самой глухой лесной части Кинешемского уезда, а с начала лета 1923 г. мне поручили в волостном совете производить «выявления объектов обложения», для чего я должен был обойти все деревни волости и переписать все хозяйства – количество земли, скота, инвентаря и т.д. И вот, с ружьём за плечами – я с детства увлекался охотой – я исколесил за лето 1923 г. всю нашу Троицкую волость. Закончив эту работу, я поступил на Александровскую фабрику на строительство плотины на реке Медозе и, поработав там рабочим на «копре» – это машина для забивания свай с электромотором, – с 1 октября 1923 г. перешёл на работу в рабочий кооператив, где под руководством главного бухгалтера Александровской фабрики М.Л. Румянцева изучил основы бухгалтерского учёта и проработал там до января 1926 года.
Ещё в 1924 г. я женился на дочери упомянутого выше Григория Фёдоровича Хомутова Марии Григорьевне, поныне здравствующей моей супруге*. Сперва мы поселились в посёлке Лабазное – прелестное местечко на берегу лесной речки Киленки, в 40 минутах ходьбы от места моей работы, Александровской фабрики. Места привольные, богатые ягодами, грибами, хорошая охота по птице и по зверю, в реках Киленке и Медозе было тогда в достатке и рыбы. Приохотившись с детских лет к рыбалке и охоте, я бы не мог найти лучшего места для жизни и подумывал о том, чтобы построить себе дом вблизи нашей бывшей усадьбы, где наш дом сгорел ещё в 1919 г., а остальные постройки приходили в ветхость. Организованный в 1918 г. в нашей усадьбе совхоз после пожара прекратил своё существование, и местность вокруг усадьбы постепенно зарастала лесом.
* Она умерла в 1986 г. (прим. А.А. Григорова).
К концу лета 1925 г. мы переехали из Лабазного в деревню Горки, по реке Мере, тоже в 40 минутах ходьбы от места моей работы – Александровской фабрики. В этой деревне председатель фабзавкома, а позже секретарь партячейки, житель деревни Горки, недавно построил себе дом, но, получив перевод по работе в город Кинешму, любезно предложил мне жить в его доме, не требуя никакой платы. Вообще, вся администрация фабрики, рабочие и служащие относились ко мне очень хорошо и доброжелательно, как и крестьяне всех ближних деревень, которые хорошо знали и помнили моих отца и мать.
Родители моей жены жили в Костроме, и жена моя стала настаивать на переезде в Кострому, где она хотела провести со своей матерью последние годы её жизни, так как здоровье Любови Ивановны ухудшалось с каждым днём. Решено было переезжать в Кострому, где мой тесть, имевший большие знакомства, обещал помочь мне устроиться на работу – ведь тогда была у нас безработица и на биржах труда очередь на получение работы ожидало большое количество трудящихся, особенно умственного труда.
В начале 1926 г. мы переехали в Кострому, где у тестя была хорошая квартира на Смоленской улице; причём, он сумел в жилотделе получить ордер на моё имя в этой же квартире – квартира была из 4-х комнат, в двух жили родители жены, одна была занята посторонними жильцами, а одну предоставили мне. Устроился на работу в бухгалтерию «Сырсоюза» – это был союз кооперативных молочно-сыроваренных артелей, большое количество которых располагалось по реке Костромке. Работал я там недолго, и вскоре тесть нашёл мне более высокооплачиваемую работу в «Госсельскладе», занимавшемся сбытом сельскохозяйственных машин, семян и удобрений – бывший сельскохозяйственный склад губернского земства, где до выхода на пенсию работал мой тесть, отличный механик и специалист по сельскохозяйственным машинам. Там я проработал недолго – в конце 1926 г. состоялось постановление о ликвидации «Госсельсклада», ввиду передачи его функций другим организациям. Но мне не пришлось быть безработным. Благодаря тем же связям тестя я тотчас же устроился на работу в Гублесотдел и связал свою дальнейшую жизнь с лесным хозяйством.
В мае 1926 г. у нас родилась первая дочь, Люба, ныне пенсионер, но ещё работающая в детском туберкулёзном диспансере. Она окончила медицинский техникум и всю жизнь работала в медицинских учреждениях. В 1927 г. я стал чувствовать себя плохо, врачи стали подозревать ТВС и посоветовали уехать из города и поселиться где-нибудь в сосновых лесах. Я обратился к своему начальнику Н.Я. Павловскому с просьбой о переводе меня из города на периферию. Узнав о причинах, он сказал, что переведёт меня в самое лучшее лесничество губернии, Потрусовское Кологривского уезда, и в сентябре 1927 г. я туда уехал. Действительно, лучшего места я бы не мог и желать. Лесничество состояло из лесной дачи свыше 36 тысяч гектаров по обеим сторонам реки Неи, это было старое казённое образцовое лесничество. Усадьба лесничества стояла среди векового соснового и лиственного леса на красивом месте, на правом берегу реки Неи – в 17 верстах от железнодорожной станции Нея Северной железной дороги, ныне это город Нея Костромской области. Кругом на многие километры расстилался тщательно сохраняемый лес, разбитый на 321 квартал – площадью примерно по 110 гектаров в квартале. В усадьбе стояли не законченный постройкой большой дом и два небольших дома. В одном расположились лесничий и контора, а другой был предоставлен мне. Лучшее время нашей жизни можно отнести к пребыванию в Липовке – так называлась эта усадьба. Служащие все примерно тех же лет. Лесничим вскоре после моего приезда был назначен А.И. Железов, только что кончивший лесной институт и первый в губернии лесной специалист, член ВКП(б) (тогда это была большая редкость: член партии – специалист с высшим образованием). Помощником лесничего были Б.И. Горский, живший с женой Марией Владимировной, и Б.А. Овчинников – холостяк. И ещё – из местных жителей, Н.В. Толстопятов. До окончания постройки дома помощники лесничего жили на частной квартире в деревне Каплино, отстоявшей в полуверсте от Липовки.
Желая закрепиться в лесном ведомстве, я поступил заочником в лесной техникум при Управлении лесами Наркомзема и на практике быстро освоил всю работу лесотехника – отвод лесосек, перечёты леса и т.д. Жизнь в Липовке была безмятежной. Отношения с крестьянами соседних деревень были отличные, их было вблизи три деревни – упоминавшаяся выше Каплино и несколько подальше Потрусово и Макарово. Все мы были молоды, дружны, нередко ставили в окрестных сёлах любительские спектакли, пользовавшиеся большим успехом. Штат лесничества состоял из 3-х объездчиков и 15 лесников. Все они были опытными, хорошо подготовленными работниками, а объездчик 2-го объезда П.Е. Чернов, в прошлом унтер-офицер сапёрных войск, мог вполне соответствовать по своим знаниям и опыту должности лесничего. Работать с этим штатом было одно удовольствие.
В Липовке родился в 1928 г. наш старший сын, там же он и трагически погиб в августе 1932 г. на глазах у матери.
Но пришли иные времена. Начались пятилетки, интенсивное истребление лесов, затем организация леспромхозов и внедрение в штаты работников «проверенных лиц», а попросту – доносчиков. В 1930 г. начался процесс «Промпартии». Вредителей искали везде, и вот нашли в Липовке меня и старика-тестя, жившего со мной. Осенью 1930 г. я был в отпуске с женой и сыном в Москве. Возвращаясь домой, я дал телеграмму, чтобы на станцию Нея выслали за нами из лесничества лошадь. Сойдя с поезда, мы остановились у знакомого заместителя начальника станции и только уселись за стол, как вошли двое с возгласами: «Руки вверх, сдать оружие и литературу!». Конечно, никакого оружия, ни литературы у нас не было. Обыскав наш багаж, жену с ребёнком отпустили, а меня посадили в камеру в только что отстроенном помещении для ГПУ – тогда, в 1930 г., был образован Нейский район и Нея стала обстраиваться нужными для райцентра помещениями. Затем меня перевели в Ярославль, а оттуда в Кинешму, где поместили во внутреннюю тюрьму ГПУ, переоборудованную из конюшни нотариуса Городецкого, чей дом в три этажа был занят Кинешемским ГПУ.
Не стану пересказывать глупейшие и бездоказательные обвинения, предъявленные «группе 19», так назвали пытавшиеся создать из 19 арестованных в разных городах – Кинешме, Костроме, Ярославле – людей «контрреволюционную группу вредителей, действовавших по заданию Промпартии». Но тогда, в 1930–31 гг., в органах ГПУ было, очевидно, ещё некоторое количество здравомыслящих лиц, убедившихся, что их просто за нос водят их же «секретные осведомители», делавшие по заданиям того же ГПУ ложные доносы. Затем нас, всю группу, перевели в Ярославль, в знаменитую тюрьму Коровники.
Вспоминая это время, приходится удивляться «патриархальности» нравов как работников органов ГПУ, так и тюремного персонала: заключённые имели у себя и бумагу, и карандаши, и деньги, и часы – всё это разрешалось. Была тюремная лавочка, где можно было купить разные продукты и предметы первой необходимости. Разрешались и письма, и передачи, и вряд ли кто-либо мог предположить, что всего через 5–6 лет в этом ведомстве и в тюрьмах установится такой порядок и режим, что от зависти могли бы лопнуть царские тюремщики. И вот в марте 1931 г. меня вызвали «на освобождение». А несколько ранее были освобождены некоторые из «группы 19», а остальные постепенно освобождены были после меня.
Вернувшись в Липовку, я узнал, что на моё место принят некий Морозов. Я поехал к директору Нейского леспромхоза тов. Лиокумовичу* и рассказал о своих делах. Лиокумович тут же отдал приказ о переводе на другое место и о восстановлении меня на работе. В 1932 г. наша Липовка входила уже не в Нейский, а в Парфеньевский леспромхоз. Постепенно в Липовке жизнь для меня становилась невыносимой. Появилось много сотрудников, в усадьбе разместилась большая конная база, и я стал замечать недоброжелательное отношение ко мне со стороны не местных жителей и старых служащих, а со стороны присылаемых из района разных выдвиженцев. Между тем руководство леспромхоза решило перевести меня в леспромхоз инструктором. В начале 1933 г. я переехал в Парфеньев. И там над нашим Парфеньевским леспромхозом разразилась гроза.
* Правильно: Лискумовичу.
Над работниками ЛПХ была произведена «экзекуция» – руководство было обвинено в невыполнении плана лесозаготовок из-за «засорённости аппарата чуждым элементом». Была назначена внеочередная чистка, и целый ряд инженерно-технических работников и служащих были «вычищены» по 1-ой категории и ниже. Я как-то уцелел – в этом я вижу проявление ко мне благоволения со стороны начальника районного отделения ГПУ, с которым я не раз вместе бывал на охоте, и я, можно сказать, «водил» его по известным мне особо богатым охотничьим угодьям. Но всё же и мне комиссия по чистке, – а её организовало и провело местное районное отделение ГПУ – «влепила» строгий выговор. Поскольку эта чистка была явным «перегибом», то после более или менее длительной волокиты – люди жаловались в самые высшие инстанции – все «вычищенные» были восстановлены на своих местах, однако большинство предпочли сменить место работы.
В 1933 г. чувствовался везде острый недостаток продовольствия, была ещё в 1931 г. введена карточная система, и я со своей семьёй испытывал постоянный недостаток в продуктах питания. Выручал «Торгсин» – в Галиче было организовано отделение Торгсина, и пришлось ездить туда и постепенно сдавать имевшиеся уже в небольшом количестве золотые и серебряные вещи. В первую очередь пошли серебряные ризы с икон, затем – ордена и медали моего тестя, крестильные кресты и прочее. В то же время, принимая во внимание проведённую чистку и вполне возможные повторения подобного спектакля, я решил сменить место работы.
Получив в августе 1933 г. отпуск, я поехал в Москву, в Наркомлес, и обратился в отдел кадров Наркомлеса о просьбой о переводе куда-либо. Мне сразу же дали направление в трест Мосгортоп; явившись туда, я немедленно получил назначение в Северный край (тогда было деление на крупные края и области), в только что организованный Монзенский леспромхоз, в 80 км от Вологды. Надо рассказать немного о тресте Мосгортоп и о Монзенском леспромхозе. Этот трест был одним из крупнейших в стране лесозаготовительных трестов. Ему принадлежали лучшие леспромхозы средней полосы и южной части Северного края. В те годы не было ещё газопроводов и Москва с её шестимиллионным населением отапливалась в основном дровами. И целые организации этого треста занимались снабжением Москвы топливом.
Но, как сказано выше, в трест входили лучшие леспромхозы, которыми заготовлялось большое количество ценного строительного леса, в том числе и на экспорт, имевший тогда очень важное значение для страны. И производственная программа была вынуждена перестраиваться, так что заготовка дров для Москвы постепенно уступала по своему значению заготовкам деловой древесины. Трест этот был организован в 1930 г. и на протяжении трёх лет не справлялся с производственной программой.
В 1932 г. Моссовет, который являлся как бы «отцом» Мосгортопа, на должность управляющего трестом назначил А.П. Ногтева – члена коллегии ОГПУ, члена Моссовета, в прошлом балтийского матроса, выполнявшего в первые революционные годы многие ответственные задания и бывшего известным В.И. Ленину. Этот человек обладал многими хорошими качествами, но не был лишен и значительных недостатков. Однако он умел «подбирать» работников и не следовал примеру других, т.е. если работник был дельным и нужным, то его происхождение или прошлая деятельность не препятствовали его службе и продвижению. Благодаря своему «весу» в Моссовете и в Московской парторганизации, а также тому, что А.П. Ногтев, будучи главой Мосгортопа, оставался и членом коллегии ОГПУ, Мосгортоп в системе снабжения продуктами находился в привилегированном положении. И паёк, получаемый на карточки Мосгортопа, был в несколько раз богаче пайка в других лесных трестах. Так, по карточке ИТР* полагалось в месяц муки 18 кг, рыбы 10 кг и т.д., в то время как в других ЛПХ** выдавалось всего 8 кг муки, а рыбы 4 кг.
* Инженерно-технические работники.
** Леспромхоз.
Словом, когда я привёз свою семью в Мензенский ЛПХ, то наше положение в смысле материальном очень изменилось к лучшему. К тому же ежеквартально приходилось ездить в Москву с планами и квартальными отчётами. Мензенский ЛПХ, в который я был назначен, был расположен на территории Междуреченского и Грязовецкого районов, примыкая с севера к реке Сухоне, а с юга – к железнодорожной линии Вологда–Вятка. В 1932 г. разразившимся ураганом в августе было повалено много леса на огромной площади, и тогда Наркомлес решил передать для эксплуатации этот массив наиболее мощному тресту – Мосгортопу, с целью использовать этот небывалый ветровал на топливо для Москвы. Было запланировано построить к этому массиву ширококолейную железнодорожную ветку от станции Вохтога. Леспромхоз был организован в 1932 г., а в начале 1933 г. весь аппарат ЛПХ – директор, технорук и техработники – был арестован и обвинён во вредительстве и других смертных грехах.
Когда я приехал туда, то там исполнял обязанности директора присланный из Москвы член Моссовета тов. Озябкин, вскоре заменённый присланным из Московского городского комитета ВКП(б) бывшим директором Московского ликёро-водочного завода В.С. Дьяконовым, красным партизаном времен Гражданской войны. Как сказано выше, управляющим Мосгортопом был А.П. Ногтев, член коллегии ОГПУ и влиятельное лицо и системе ОГПУ, как и вообще в высших правительственных кругах. Ввиду постоянного невыполнения планов рядом леспромхозов, в том числе и самым крупным – Темниковским, состоявшим из 12 первоклассных лесничеств и расположенным в пределах Мордовской АССР: Зубово-Полянский, Виндреевский, Темниковский районы МАССР и Кадомский район Московской области, – А.П. Ногтев, пользуясь своим положением, решил на его территорию перебросить с севера один из ИТЛ* Гулага, так называемый лагерь заключённых (а Гулаг – это Главное Управление лагерей ОГПУ), и 17 мая 1931 г. было положено основание известному «Темлагу», расположившемуся на территории Темниковского леспромхоза. Этот леспромхоз состоял, как сказано выше, из 12 образцовых лесничеств, а его владения с юга ограничивались железнодорожной линией Казанской железной дороги со станцией Потьма. От этой железной дороги была ещё в 1915 г. проложена ширококолейная ветка железной дороги до станции Молочница, где был построен лесопильный завод. В 1928–1930 гг. эта ветка была продолжена до 36 км, где обосновалось управление Темлага, а станция получила название «Перековка». Там же, вблизи этой станции, на реке Явас был построен завод – один из «гигантов 1-ой пятилетки» (один из 518 построенных в 1-ую пятилетку заводов и фабрик). Этот завод, равно как и завод на станции Молочница, был тоже передан Темлагу.
* Исправительно-трудовые лагеря.
Затем начали создаваться и другие лагеря на базе леспромхозов Мосгортопа. В 1935 г., после двух лет работы в Монзенском ЛПХ, я получил перевод в Темниковский ЛПХ, крупнейший не только в системе Мосгортопа, но и вообще на Европейской территории СССР. Центр леспромхоза находился на станции Потьма Московско-Казанской железной дороги. Программа лесозаготовок состояла ежегодно из миллиона и более кубометров, причём, так как массив леспромхоза состоял из насаждений высшего класса – сосновый бор 1-го бонитета*, – то, соответственно, и доходы леспромхоза были миллионные. Ко времени моего приезда только четыре участка были «вольными»: Виндреевский с лесозаводом того же наименования, Парцинский на реке Парце, Кочемировский, Староутовский** – и две большие конные базы, Виндреевская и Апаевская***.
* Бонитет (лат.) доброкачественность.
** Правильно: Староужовский.
*** Правильно: Анаевская.
Все остальные лесничества были заняты Темлагом, там были образованы лагпункты, их число было около 30, и всё это обслуживалось заключёнными. План выполнялся безоговорочно, ибо контингент рабочих, служащих, а также ИТР и административно-технического персонала состоял почти исключительно из заключённых, недостатка в которых не было. С той поры я близко познакомился с Темлагом и высшей инстанцией – Гулагом. Пришлось познакомиться и с начальством Гулага – назову их имена: Берман, Плинер, начальники Темлага А. Израилев, М.Л. Долин, заведующие отделами: Блюменфельд – производственный отдел, Айзенман – опер-чекистский отдел, Тенибал – финансовый отдел, Калюжный – главный бухгалтер и другие. Работа в Темниковском ЛПХ была налажена отлично, план всегда выполнялся, прибыль была такова, что в 1936 г. только в директорский фонд было отчислено свыше миллиона рублей.
В эти годы 1935–1938 гг. начальство часто использовало меня для длительных инспекторско-инструкторских командировок в другие ЛПХ на севере страны. Это были Коноша, Вельск, Ерцево, где громадный Ерцевский ЛПХ на линии Вологда–Архангельск, и гигантский Ветлужжо-Унженский леспромхоз с ширококолейной веткой от станции Сухобезводное линии Горький–Котельнич до станции Лапшанга. В 1937 г. все руководство ЛПХ было арестовано как вредители и леспромхоз был передан Гулагу. И мне было поручено производить передачу этого огромного предприятия в Гулаг. В числе арестованных было много моих сослуживцев и знакомых. Такому же погрому в 1937–1938 гг. подверглись и другие леспромхозы. Не избежал этой участи и Наркомат. Первый нарком С.С. Лобов был арестован ещё в 1936 г., занявший его место секретарь Северного (Архангельского) обкома партии В.И. Иванов последовал за ним, затем пришла очередь нашего Главка (Главсевлес, начальник – Альберт), и в 1938 г. участь всех их разделил сам А.П. Ногтев.
Я же продолжал работу – находясь как бы под защитой того же самого НКВД. Дело в том, что местные власти Мордовской АССР были как бы не «власти» над Темлагом, а наш ЛПХ постепенно полностью переходил в Темлаг. И вот, в соседнем Зубово-Полянском ЛПХ шли аресты, а у нас было всё тихо и спокойно. Везде в СССР органы ОГПУ–НКВД составляли как бы «государство в государстве», и это особенно было заметно в Мордовии, где «Дальстрой» совсем не подчинялся ни в какой области ни Хабаровскому обкому, ни облисполкому. В конце 1938 г., уже после ареста Ногтева, было принято решение полностью передать всё, оставшееся от бывшего Темниковского ЛПХ, Гулагу. И меня пригласили на работу в Темлаг. Однако я отказался и перешёл по приглашению директора Октябрьского ЛПХ в городе Кадоме Рязанской области на работу туда. Там моя работа была непродолжительна.
Вскоре я был арестован вместе с другими работниками ЛПХ и по нелепому и к тому же совершенно глупому обвинению посажен на 10 лет, которые превратились почти в 15 лет тюрем, лагерей и ссылки. Пришлось побывать и на 2-ой очереди Беломорстроя – в мало кому известном Маткожненском лагере (строительство социалистического города, алюминиевого завода и гидроэлектростанции), – проект был грандиозный, но оставшийся так и не выполненным из-за начавшейся войны. Затем стройка магистрали Котлас–Воркута, в 1943 г. переезд на Дальний Восток (строительство восточного плеча БАМа – от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани), с 1945 по 1950 г. – строительство «города юности» Комсомольска-на-Амуре, затем ссылка на реку Бирюсу, а оттуда в пустынные степи Казахстана, и, наконец, в 1957 г. долгожданная реабилитация – «за отсутствием состава преступления», как сказано в решении Верховного суда СССР*.
* В документе о реабилитации стоит дата «13 ноября 1956 г.» (Григоров А.А. Из воспоминаний // Григоров А.А. Из истории костромского дворянства. – Кострома, 1993. – С. 462).
В 1959 г. возвращение на родину – в Костромскую область, хлопоты с предоставлением квартиры, как «пострадавшему в годы культа», и одновременно работа на Костромском хлебокомбинате* до выхода на пенсию. После выхода на пенсию – успешная работа по истории родного края, его выдающихся людей и по генеалогии Костромского дворянства, продолжающаяся до сего дня. Много пришлось ездить в Москву, Ленинград и другие города для сбора архивных материалов, много было опубликовано статей на исторические темы и биографий выдающихся костромичей как в местной печати, так и в других местах. И эту работу продолжаю до сих пор**.
* Хладокомбинате.
** Единственный пока сборник работ А.А. Григорова «Из истории костромского дворянства», вышедший в Костроме в 1993 году, выложен на сайте: http://costroma.k156.ru/d/index.html.
Несмотря на всё пережитое, я должен сказать, что везде я встречал хороших людей, всегда приходивших мне на помощь в трудное время, и с их помощью я сумел перенести все тяготы 18-летних испытаний. Должен с благодарностью вспомнить имена инженеров Маткожстроя Батюшкова и Н.П. Ясницкого, бухгалтера Хазанова, помощника начальника лагеря по труду Жаворонкова (Печора), начальника Нижне-Амурского лагеря генерал-лейтенанта И.Г. Петренко, начальника контрольно-планового отдела того же лагеря В.А. Крупенникова, начальника КП* А.А. Журавлёва, начальника колонны ЗПХ В.С. Ильина** и других. Как говорится, «свет не без добрых людей».
* Правильно: КПО (контрольно-плановый отдел).
** В опубликованных воспоминаниях – Пётр Степанович Ильин, начальник колонны № 104.
17 ноября 1983 г.
г. Кострома
/А. Григоров/

ГАКО, ф-864, оп. 1, ед. хр. 2, л.1–27
Публикация А.В. Соловьёвой.