«GENIUS LOCI» как тест культуры
Едошина Ирина Анатольевна
доктор культурологии, профессор
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова
entelehia@ksu.edu.ru
В статье термин «genius loci» получает культурологическое осмысление, структурируется, иллюстрируется примерами функционирования в тексте культуры. Специальное внимание уделяется художественному аспекту в содержании представляемого термина.
Ключевые слова: genius loci, текст культуры, функции, структура, художественный дискурс.
Genium dicebant antiqui naturalem deum
iniuscuiusque loci vel rei aut hominis.
Servius1
«Genius loci» – «гений места» – является устойчивым выражением, сложившимся в древнеримской культуре, где оно понималось как «дух местности» [3, с. 453], «отдельные области своих гениев» [14, с. 127], или, по Сервиусу, «гений места» есть природный (читай: данный, изначально присущий), а потому содержащий самый смысл любого феномена предметного мира, этим «гением» одухотворяемый.
Как видно из приведенных определений, выражение «гений места» одновременно развернуто как на указание, что данное место обладает собственным, оригинальным гением, который, по-видимому, способен передаваться некоторым творческим личностям, о чем наглядно свидетельствует история культуры, так и на самую личность, гений которой экстраполируется на данную местность. Хотя, конечно, такого рода дифференциация носит сугубо гипотетический характер, поскольку реально разделить эти значения чрезвычайно трудно. «Гений места» – это его дух, его дар, его покровительство. Все эти определения по своей сути метафизически окрашены и столь же метафизически определяют художественный дискурс. В то же время «гений места» не есть некая «локальная культура». Данное понятие много глубже, онтологичнее. «Гений места» порождает и притягивает художественное сознание, способствуя формированию особого дискурса. Чтобы точнее определить, какого рода дискурс имеется в виду, необходимо обозначить некоторые аспекты данного понятия.
Вслед за А.Ж. Греймасом и Ж. Курте в дискурсе следует подчеркнуть специфический способ его организации, который целиком ими относится к области речевой деятельности. Как мне представляется, можно было бы расширить это определение, добавив, что специфической организацией обладает всякий текст, если понимать текст как безграничный, бесконечный мир. В частности, Ж. Деррида, размышляя о тексте, в работе «Письмо и различие» (1967) указывает на его игровое начало, которое во многом исходит из структуры (структурированности) текста, понимаемого как «невозможная возможность» в силу того, что текст уже создан. В качестве примера Деррида приводит отрывок из письма С. Малларме П. Верлену от 11 ноября 1885 года: «Я пойду еще дальше, сказав: просто Книга, будучи убежденным, что существует одна единственная Книга, которую пытается, не зная того, написать любой, кто пишет, даже Гении» [4, с. 18]. Далее Деррида пропускает важное, с моей точки зрения, пояснение Малларме: «Орфическое истолкование Земли – в нем состоит единственный долг поэта, ибо тогда сам ритм жизни, живой и безличный, накладывается, вплоть до нумерации страниц, на формулу этой мечты...» [10, с. 411].
Таким образом, единый Текст (читай: Библия) наполняется не отвлеченным, а реальным и одновременно мистическим содержанием, близким орфической поэзии: «...всего ты (Афродита. – И.Е.) исток, что являет нам Космос бездонный» [11, с. 70] 2. В контексте единого Текста рождается дискурс, изначально понимаемый как игра с этим Текстом, ибо, следуя формулам аккадского эпоса «Энума элиш...», все уже создано, названо и отмечено судьбой.
Само слово «дискурс» в значении «рассуждение, довод, аргумент» стало использоваться за пределами древнеримской культуры и, как отмечает В.В. Бычков, присутствует в постмодернистской парадигматике для обозначения не только особой организации текста, но и его прочтения [9, с. 163]. Он обращает внимание на исходное значение слова «dicыrsus» – «бестолковая круговерть» – и считает, что «антитетическая полисемия становится нормой мышления и вербального выражения» в постмодернистских текстах [9, с. 163]. Добавлю, и не только постмодернистских, а текста культуры в целом. Такого рода расширение значения допускает само слово «дискурс», которое в латинском языке указывает на некую хаотичность, неорганизованность, беспрерывное мелькание3. Иными словами, в ткань дискурса непременно включается нечто, что разрушает причинно-следственную наррацию и одновременно расширяет само пространство текста, который стремится обрести черты различенной целостности. Чтение и понимание такого текста требует аналогичного инструментария, каковым в данном случае может быть назван «гений места».
«Гений места» как текст культуры содержит явленное и скрытое, феноменальное и ноуменальное не просто в их взаимообусловленности, но указывает на невозможность бытия вне «духа» конкретной топики. Вот это сочетание предельно конкретного (местности) и предельно абстрактного (духа) создают особое пространство текста, рожденное «гением места». По этой причине и художественный дискурс, в контексте которого выявляется «гений места», обладает собственными характеристиками. Важную функцию в создании художественного дискурса конца XIX–ХХ веков играет отталкивание, притяжение, интерпретация образцов классического или модернистского искусства. Потому интертекстуальность становится специфическим, особым признаком нового искусства в целом, а не только его постмодернистской парадигмы.
Таким образом, «гений места» способствует рождению художественного сознания, в формах которого само себя осуществляет в амбивалентной развернутости реального и мыслимого.
В этом аспекте «гением места» обладают, например, Баварская земля и ее центр – Мюнхен. В разные культурно-исторические эпохи «гений места» являлся в разных обличьях. Так, во время Реформации именно Бавария оставалась духовным «островком» католицизма в Германии этого времени [8, с. 134]. В середине ХIХ века благодаря усилиям Максимилиана Второго в Мюнхене проводились поэтические «симпозиумы» (Э. Гейбель, П. Гейзе, Ф. Боденштедт, А.Ф. фон Шак и др.), которые культивировали идеал благородного, возвышенного слога, актуализировали эстетическое начало в искусстве, уделяя особое место форме (и это в то время, когда для большей части германской литературы было присуще ярко выраженное обличение общественных нравов: Г. Гейне, Г. Веерт, Г. Келлер и др.) [6]. Во второй половине ХIХ века Людвиг Второй украшает Баварскую землю редкими по красоте замками и дворцами, специально для Р. Вагнера строит в Байройте театр, где в 1876 году впервые исполняется тетралогия «Кольцо Нибелунга», где, приезжая в Байройт на спектакли, музыку Вагнера будет слушать Ф. Ницше [20, s. 45–53]4.
В конце XIX века Мюнхен становится подлинным художественным центром благодаря приехавшим художникам: венгру Ш. Холлоши и словаку А. Ажбе. Может быть, они не были великими художниками, но именно в Мюнхене оба стали великими педагогами, у которых обучался почти весь цвет будущего европейского и русского авангарда. К ним ехали специально из разных уголков мира те, кто хотел познать основы нового искусства [1, с. 4–7]. На улицах Мюнхена Дж. де Кирико впервые увидел столь характерные для его будущих картин тени [18, s. 8], а в окрестностях Мюнхена, в Мурнау, пораженные голубизной пейзажа и подстекольной техникой церковных витражей, В. Кандинский и Ф. Марк создадут группу «Der Blaue Reiter» («Синий всадник») и в 1912 году выпустят альманах с одноименным названием, где абстракционизм впервые заявит о себе, а затем будет назван Кандинским высшим проявлением духовности в искусстве [13, с. 12–16]. Как замечает А. Хоберг, художники группы «Синий всадник» стремились облечь в форму «дух» искусства [16, с. 10].
Таковы наиболее яркие проявления «гения места» Баварии и Мюнхена на протяжении нескольких столетий, особенно явственно обозначившиеся на рубеже XX–ХХ веков. Спецификой творимого «гением места» текста, в первую очередь художественной культуры, следует назвать антиномичность, которая, в частности, запечатлелась в том, что творцами художественного дискурса оказались иностранцы. Попав в пространство «гения места», они смогли реализовать свои творческие устремления благодаря сопряжению с этим пространством в его амбивалентности.
Так, Василий Розанов во время своей второй поездки по Германии в 1910 году оказался в Мюнхене. Город поразил воображение писателя тем, что «весь зарос искусством» [12, с. 529]. В этом образном определении Розанова явственно проступают контуры «гения места»: «зарасти» искусством можно только при условии, если подобное «зарастание» является органичным, присущим данному месту, если сквозь «зарастание» проступают контуры духовных оснований бытия. А следом Розанов (в силу присущей ему проницательности) подмечает: «...название, каким назвал его (Мюнхен. – И.Е.) свет и он сам называет себя: “германские Афины”, в сущности, вовсе не идет к нему. Он построил Пропилеи: но это – копия (курсив в цитате везде принадлежит Розанову. – И.Е.); перенес Лоджия к себе, ничего к ним не придумав. Пинакотека наполнена вековою живописью всех стран: но в нем германская живопись занимает едва заметный уголок, а баварская – почти никакого. Тогда как Афины украсились тем, что сотворили сами» [12, с. 529–530]. Из розановских размышлений вытекает, что Мюнхен «зарос» чужим искусством и что эта особенность явно осмысляется писателем как нечто негативное. Между тем, ничего негативного в подобном «присвоении» другого, если исходить из предложенного понимания «гения места», не существует, поскольку важен самый факт при-своения, при-соединения того, что родственно по сути, – выявлять само себя в художественном дискурсе единого текста мировой культуры, и Розанов чутко подмечает эту специфику «гения места», трактуя ее по-своему.
Бродя по залам Максимилианеума среди произведений всех времен и народов, Розанов поражается, узнав, что здание это воздвигнуто «для раздачи наград студентам всех высших учебных заведений города и есть только “актовый зал” Баварского королевства!..» [12, с. 531]. Иными словами, роскошное здание поставлено не в честь коронованных особ, а с целью, казалось бы, сугубо утилитарной: награждение студентов. Для реализации этой цели стоило ли воздвигать целый храм искусств (тут Розанов, скорее всего, исходит из российского опыта)? Но «гений места» Мюнхена требует своего воплощения во всем, ибо неявственно во всем присутствует, подобно духу, который, как известно, веет, где хочет. Вот почему «бесчисленные музеи» и «бескорыстные постройки» (определения Розанова) появляются в Мюнхене, создавая особый художественный дискурс его бытия.
Этот дискурс в его духовной составляющей наглядно являют мюнхенские церкви: «Нигде я не видел так переполненных храмов, как в Мюнхене: они огромные, а нет места на скамеечке присесть. И лица молящихся одушевленны, серьезны. Многотысячная толпа слушает проповедь, одушевленную и голосом на всю церковь, францисканца, подпоясанного веревкой. <...> Здесь наблюдаешь конкретный католицизм в его необозримом изгибе, на одном конце которого стоит Тилли и ужасы, война и гроза, а на другом... античные нимфы, восторг к “храму Афродиты в Тиволи” и “Мадонна”, начать молиться которой никогда не могло бы прийти на ум русскому человеку. От небесной грозы до подземного смеха, католицизм включил в себя необозримую гамму чувств, ощущений, мыслей, раскаяний и греха и расцветился всею ею, как брызгами разбитой радуги» [12, с. 535].
Искусство и вера – две сущностные характеристики «гения места» Мюнхена, которые находятся в сложных антиномических, изменчивых отношениях. Их изменчивость провоцируется кажущимся несовпадением формы и содержания, создавая особое игровое пространство, где целью игры является постижение содержательности самой формы, неважно, в искусстве или в жизни, поскольку вместе они суть все тот же единый текст бытия.
Своеобразным ключом к пониманию смысла этой игры может быть назван розановский «мюнхенский монашенок»: «Растопырив широко руки, расставив ноги, красивый мальчишка, с лукаво и ласково улыбающимся ртом и хорошенькими щечками полудевочки, полумальчика, одет в “глубокий траур” католического монаха, со стихарем на груди... Куколь-башлык закутывает его головку, – совершенно как на портретах Саванароллы. Но не распятие он держит, как грозный обличитель Флоренции и Медичисов: в поднятой правой руке его пенящаяся кружка пива, а в левой – пучок вкусных редисок... Есть и вариант: пальцы правой руки сложены в “священное благословение”, а в левой – Евангелие... Это – мюнхенский Купидон. В то же время – исторический герб города. С изумлением раз я увидел этого же “треклятого монашенка” в церкви, в самом алтаре: те же расставленные ноги, раскинутые в сторону ручонки... И пиво, и редиска...» [12, с. 526].
Конечно, эти наблюдения окрашены сугубо розановским отношением к русской церкви, в содержательных формах которой он искал и не находил «отепленности» жизнью, но здесь речь идет об ином смысле. Розанову удалось подметить самую суть «гения места», способного одухотворить собою мир и явить себя в игровой антиномичной форме, в данном случае – «мюнхенского монашенка». В его духовно-художественном дискурсе антиномии не разъединяют, а, наоборот, соединяют «несовместимые контрасты жития» (Розанов). Более того, лишь в подобном соединении проявляется подлинный смысл Текста, онтологическое содержание его бытийствования, о чем наглядно свидетельствуют, например, личность и творчество Антона Ажбе. Несовпадение в Ажбе внешности и самой личности было поразительным. И.Э. Грабарь, учившийся у художника, оставил свое первое впечатление об Ажбе: «Среди них был маленький горбатый человечек в мягкой широкополой шляпе желто-оливкового цвета, в легком пальто такого же цвета, накинутом на плечи, в сером летнем костюме. Из-под шляпы у него выбивались желто-рыжие волосы, под мясистым носом, с врезавшимися с боков пенсне, торчали во все стороны огромные пышные усы, а бородка была заострена. <...> Ему было лет под сорок. В левой руке он держал длинную тонкую сигару с соломинкой... правой опирался на палку и что-то со смехом рассказывал окружающим, размахивая сигарой» [2, с. 112]. Судя по этому описанию, Ажбе являл собой образ настоящего художника эпохи европейского «fin de siècle»: эстет до мозга костей. По замечанию М.В. Добужинского, «сам он настоящий сноб» [5, с. 149]. Об этом же свидетельствует и «Автопортрет» (1886): бледное, с тонкими чертами лицо художника, его выразительная рука с длинными пальцами словно проступают из окружающей фигуру плотной, почти кромешной темноты. Кажется, что лицо и рука освещены каким-то внутренним светом, исходящим из глубины его «я», и овеяны глубокой грустью. Таким он видел себя сам. Тем разительней был контраст внутренней изысканности художника, которая, как в зеркале, отражалась в одежде, в длинной сигаре, с реальным непропорциональным, словно изломанным телом. По сравнению с ним голова казалась устрашающе огромной: «почти гном с большой головой» [5, с. 148].
С другой стороны, внешность художника заставляет вспомнить о декадансе, этой характерной черте культуры «конца века», в которой со всей отчетливостью запечатлелось острое ощущение маргинальности жизни, с ее вечным колебанием между жизнью и смертью, прекрасным и безобразным, сном и явью. Обычно о декадансе принято говорить как о культуре упадка, хотя такое определение не исчерпывает всей сущности данного феномена. Скорее, его параметры располагаются в движении с самой высокой точки к самой нижней, и тогда декаданс есть попытка художественного сознания со-единить их. Мне думается, смысл этой попытки вполне сопоставим со знаменитым «кувырком» из «Божественной Комедии» Данте, где Ад есть другая, иная, но все же сторона Рая. Они объединены в единое целое, не могущее существовать в отдельности своих противоположных ипостасей. Так и в Ажбе его художественная, утонченная личность была помещена в чудовищную форму. Это, конечно, никоим образом не означает, что таково идеальное состояние всякой творческой личности. Но, безусловно, является свидетельством теневой стороны творчества, той самой, которая заставила Гейне заметить, что перо гения всегда выше самого гения. В случае с Ажбе существенную роль сыграл «гений места», способствовавший его становлению в качестве гениального педагога. Хотя, наверное, он таковым не состоялся, если бы интуитивно не ощутил веяния нового искусства. Его художественная интуиция (а он и в творчестве был художником сугубо интуитивным, потому многие работы остались незаконченными, в них только в абрисной форме угадывался замысел) в полной мере раскрылась именно в Мюнхене под сенью «гения места» баварской столицы.
Художественный дискурс Ажбе обладает той степенью реалистического постижения мира, который ни в коей мере не соотносим с реализмом в его классических (иллюзорных) формах. Художник не пытается копировать мир, что, в конечном счете, всегда обречено на неудачу, ибо мир богаче любой, даже самой хорошей копии. Пространство его картин обладает глубиной, но эта глубина цветовых соотношений, а не проекций и конструкций. Менее всего глубина в его интерпретации претендует на создание иллюзии реальности, которая базируется на прямой перспективе. Как правило, воздушная перспектива его картин не удаляет, а приближает к зрителю изображение.
Так, в картине «Полуобнаженная – женский полуакт» (1888) мы видим сидящую героиню. Ее согнутая фигура лишена мышечного напряжения, руки безвольно и устало лежат на коленях, лицо будто специально отвернуто от зрителя, которому дано созерцать только равнодушный профиль. Холодность и отстраненность человеческой фигуры подчеркивается светящимся, обнаженным по пояс телом. Этот ровный свет словно «оживает», соприкасаясь с фоном: его неровная поверхность начинает вихриться, и сквозь «вихрения» явственно проступает иное пространство, напоминающее древний хаос с его бесформенностью и одновременно готовностью к рождению. В таком фоновом контексте женская фигура кажется первым порождением хаоса, неясным в своей оформленности, но обладающим сущностным смыслом. Становится понятным онтологизм второй части в названии картины – «женский полуакт»: суть заключается не только в том, что перед нами не полностью обнаженная фигура, но еще и в том, что эта фигура олицетворяет саму «женскость» в ее вечной феноменальной незавершенности. Контраст светлой фигуры и темной одежды придают этой незавершенности драматический оттенок.
Как тонкий художник, Ажбе остро ощущал драматизм человеческого существования и запечатлевал его в своих работах. «Гений места» – понятие все-таки умозрительное, онтологичное. Творческая личность, скорее всего, ощущает свою метафизическую связь с ним, тем трагичнее острое понимание невозможности осуществления полноты этой связи в реальности. Игровое пространство художественного дискурса есть способ забвения художника с помощью проникновения в «невозможность возможного».
В картине «Баварец» («Старик в красном галстуке», до 1889) художник пишет мужской погрудный портрет. Человек почти сливается с фоном, колорит которого словно передается его волосам и одежде. Свет падает на лицо сбоку и сверху, неравномерно освещая его черты, подчеркивая резко обозначенные морщины, плотно сжатый рот, тонкий длинный нос, и словно «застревает» маленькими точками в глазах. Но суровый аскетизм лица неожиданно словно «снимается» красным пятном галстука. Почти пульсирующий красный цвет говорит о другой стороне его жизни, заставляя вспомнить розановского «мюнхенского монашенка». Эта другая сторона явно свидетельствует, что герою ведомы страсти, которые всего лишь скрыты возрастом и ситуацией, что его лицо есть своеобразная маска, надетая, как и костюм, к случаю. Но это такая маска, снять которую он уже не в силах, и остается только воспоминание о былой жизни, данное в образе красного пятна галстука.
Это впечатление еще больше усиливает оборотная сторона картины, где художником написано: «Старик в черном галстуке» (после 1890). Исследователь творчества Ажбе М. Тршар сравнивает эту работу художника с портретом Ф. Шопена кисти Э. Делакруа. Однако, на мой взгляд, это чисто внешнее сходство в расположении фигуры, ракурса, а задачи перед художниками стоят разные: Делакруа создает романтический образ композитора, Ажбе откровенно любуется цветовыми сочетаниями. Не случайно затем Тршар обращает внимание на богатство цветовых оттенков в портрете, созданном Ажбе [19, s. 68]. Кажущаяся цветовая избыточность странным образом рождает ощущение подлинного реализма изображения, такого реализма, когда реальным (видимым) становится то, что в принципе не имеет формы. Старики на портретах соединены общим пространством, каждый из них представляет оборотную мнимую сторону другого. Это не зеркальное отражение, но воплощение прерывности как подлинного основания бытия. В этих портретах словно воплотился самый двоящийся, игровой «гений» Мюнхена, притягивающий к себе творческих людей.
«Гений места» в жизни и творчестве Антона Ажбе есть его частное, но весьма показательное проявление. Оно во многом определило существенные стороны его художественного дискурса, «вихрения» которого сродни антиномичности бытия в целом. С помощью понятия «гений места» можно с большей степенью достоверности постигать смысл историко-генетического развития единого текста художественной культуры.
Примечания1 «Гением древние называли природного бога каждого места или вещи, или человека». Сервиус.
2 О значимости орфизма для художественной культуры ХХ века свидетельствуют, в частности, произведения Р.М. Рильке («Дуннские элегии», 1923; «Сонеты к Орфею», 1923), П.А. Флоренского («Не восхищение непщева», 1915). Хоружий указывает на общий (единый) смысл орфизма и христианства (но можно прочитать и шире: всякого монотеизма) в понимании сути восхождения как постижения скрытых сущностей предметного мира, что, собственно, и создает единый Текст мировой культуры [17, с. 31–40].
3 В латинско-русском словаре значение «беседа, разговор» дается последним, следовательно, не основным [3, с. 335]. Однако эти «беседа, разговор» явно имеют все тот же оттенок неорганизованности, смысл которой наиболее наглядно демонстрируется, например, в абсурдистской драматургии.
4 Следует специально отметить, что личность Людвига Второго в восприятии баварцев имеет харизматический характер, что, кстати, тонко, но с нескрываемой иронией подметил М.В. Добужинский: «Мы без труда нашли в Швабинге, мюнхенском Парнасе... две чистенькие и удобные комнаты... Комнаты были обставлены с самой мещанской обстановочкой: бархатный диван с высокой спинкой, портьеры с помпончиками и, конечно (курсив мой. – И.Е.), портрет Людвика II Баварского в золотой раме олеография» [5, с. 147].
Библиографический список1. Барановский В.И., Хлебникова И.Б. Антон Ажбе и художники России. – М.: Издательство Московского университета, 2001.
2. Грабарь И.Э. Моя жизнь: Автобиография. Этюды о художниках / сост., вступ. ст. и коммент. В.М. Володарского. – М.: Республика, 2001.
3. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М.: Русский язык, 1976.
4. Деррида Ж. Письмо и различие / пер. с франц. Д.Ю. Кралечкина. – М.: Академический проект, 2000.
5. Добужинский М.В. Воспоминания / изд. подгот. Г.И. Чугунов. – М.: Наука, 1987.
6. История всемирной литературы: В 8 т. / гл. ред. Ю.Б. Виппер. – М.: Наука, 1983–1994. – Т. 6–7.
7. Кандинский В. О духовном в искусстве. – М.: Архимед, 1992.
8. Культура эпохи Возрождения и Реформации / редкол.: Л.М. Брагина, А.Х. Горфункель, А.Н. Немилов и др. – Л.: Наука, 1981.
9. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / под ред. В.В. Бычкова. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.
10. Малларме С. Сочинения в стихах и прозе: Сборник / сост. Р. Дубровкин. – М.: Радуга, 1995.
11. Орфей. Языческие таинства. Мистерии восхождения / предисл., излож., коммент. А. Шапошникова. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
12. Розанов В.В. Сочинения: Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков, 1899– 1913 гг. / сост., коммент. и ред. В.Г. Сукача. – М.: Танаис, 1994.
13. Синий всадник / под ред. В. Кандинского и Ф. Марка; пер., коммент. и статьи З.С. Пышновской. – М.: Изобразительное искусство, 1996.
14. Словарь античности / пер. с нем. – М.: Прогресс, 1989.
15. Фаворский В.А. Воспоминания современников. Письма художника. Стенограммы выступлений. – М.: Книга, 1991.
16. Хоберг А. Новая миссия искусства. Мурнау, Мюнхен, «Синий всадник» // Кандинский и «Синий всадник» / под ред. А. Хоберг, Н. Автономовой. – М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2011.
17. Хоружий С.С. Миросозерцание Флоренского. – Томск: Водолей, 1999.
18. De Chirico / Coordination éditoriale S. Poigner. Éditions Cercle d'Art. – Paris, 1995.
19. Tršar M. Anton Ažbe. – Ljubljana, 1991.
20. Schmid G.M., Kinnius V. Inszenierte Einsamkeit Ludwig II. – München: Buchendorfer Verlag, 2000.

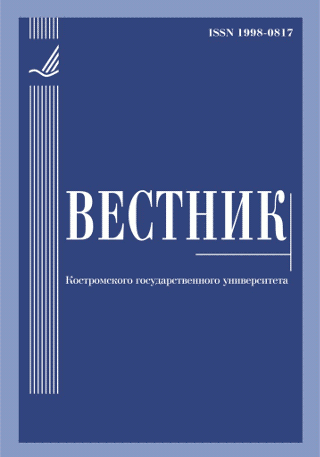 научно-методический журнал
научно-методический журнал