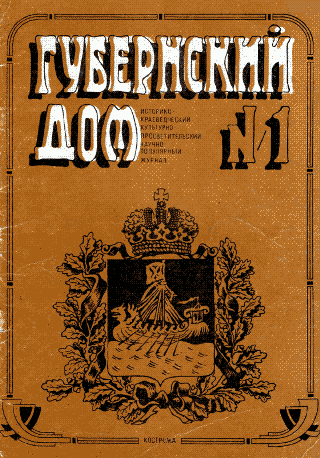Губернский дом 1992 год. № 1
Историко- краеведческий культурно- просветительский научно- популярный журнал № 1. – Кострома: Б/и, - 1992. - 80 с.
Содержание
Время Общество ЗнаниеИгорь Дедков. По ту и эту сторону надежды. 3
Свет чижовской школы.. 7
Взрослы е и дети. С оциологическое исследование. 11
По следам Скарабея. 13
Свидетельства Архивы Документы200 лет П.А. Катенину. Стихи, письма, новые материалы о жизни и творчестве. 15
И з истории герба города Костромы. 23
Виктор Бочков.Костромские пруды. 26
Журнальный архив. "Костромской кооператор". 28
С.М. Чумаков. Воспоминания костромича. 30
Литература Искусство КультураЖивая старина. Народное творчество в Костромском крае. 41
Представляем м олодеж ное литературное объединение "Ладья". 50
Ж изнь и судьба костромских колоколов и звонарей. 54
Конкурс-викторина.62
Игорь Дедков
По ту и эту сторону надежды
хоть какие-нибудь кристаллы
сберечь от нее".
С. Волконский.
Что такое Кострома, спросили бы меня тогда, и я ничего бы не ответил. Да, да на берегу Волги, а все остальное в тумане, в тумане. Куда еду, зачем, к кому, да и сам ли еду, или погоняет кто?
Долг погоняет нас, долг!
"И долог русский долг".
И тридцать лет прошло, и еще сколько-то, - может, жизнь прошла, - и все погоняет?
Там погонял, тут погоняет...
Поистине долог. И вездесущ...
* * *Там, куда я забрел, сойдя с пристани и долго гуляя-плутая в заволжских улочках, переулках и тупиках, улица внезапно раздвинулась по-деревенски, образуя большую зеленую поляну, всю - в солнце. И дома обступали ее то ли деревенские, то ли дачные, полураскрытые бело-розовыми и сиреневыми облаками дружного майского цветения, посверкивая из-за заборов чистыми стеклами веранд, слепя свежим жестяным скатом одной из крыш. У калиток на скамеечках - пестрые платья, белые рубашки, строгие старушечьи платки, и невидимый мне гармонист в спазме светлой печали выводящий: "На сопках маньчжурских воины спят"... Захмелевшие веселые парни полулежали на траве, сбившись в кружок, хохоча и дурачась; отброшенная пустая бутылка скатывалась в придорожные молодые лопухи. Догорал костер из прошлогодней листвы, и легкий дымок голубовато слоился в мареве жаркого полдня. Дети играли в круговую лапту, и ловкая девчонка, высоко подпрыгивая, увертывалась от азартно пущенного мяча. Чувство, вдруг охватившее меня, было неожиданным, но знакомым. Когда оно подступает, сердце сжимается, как от любви и жалости к близкому и родному человеку. И еще при этом ощущаешь, как бы угадываешь свою малость в сравнении с тем, что неизмеримо больше тебя, и надежнее, и не знает времени. Это вроде бы беспричинное чувство (как беспричинные слезы? хотя есть, есть, всегда есть причина!) и есть чувство родины. Впервые я пережил его или что-то похожее, когда в двадцатых числах июня сорок первого года, едва ли не на другой день после первой, ночной бомбежки Смоленска, полуторка с маминой работы увозила нас, детей с бабушками, подальше от города, в какое-нибудь деревенское укрытие. Отец, уже в пилотке, гимнастерке и портупее, забежал, попрощался. Взрослые говорили: "поживете там недельку-другую, и вернетесь, война кончится". Был яркий и чистый солнечный день, за бортом грузовика проносились перелески и огромные колосящиеся поля, ветер трепал мою рубашонку, и вся земля наша казалась бескрайней, празднично-красивой... Но совсем отчетливо я испытал это чувство много позднее, в четырнадцать лет, в окрестностях Щелыкова, на белом от ромашек лугу вблизи от церкви Николы в Бережках. Но про это надо рассказывать отдельно, про знак судьбы, не иначе, указавший мне на мою костромскую будущность, а сейчас лучше вернусь в майский полдень пятьдесят восьмого года, когда, все еще осваиваясь в новой для себя местности, я забрел на ту зеленую поляну... Но не любовь к отечеству, вдруг прихлынувшая, сохранила в моей памяти тот день и, должно быть, нескладно воспроизведенную картину увиденного. Я пересекал ту поляну стеснительно, опасаясь как-то стронуть ее домашность, снова и снова ощущая себя чужим в этом городе и с неловкостью неся среди незнакомых, чужих лиц свое тоже незнакомое им, чужое, заезжее лицо, и при этом с силой пронзившего вдруг открытия думал: боже мой, ничего же не изменилось, все, как было, так и есть, как завелось, потянулось, так и ведется, и тянется, все, как у Горького, так и вижу: окраинные домишки, воскресное гулянье, те же утехи, и не иначе все тот же Павел Власов, спотыкаясь и дружески раскинув руки, идет ко мне: "Брато-ок!".
Много лет спустя, перелистывая роман, сочиненный в оправдание грядущего пролетарского восстания, напрасно отыскивал я там что-то похожее и зримокартинное, способное вспыхнуть в памяти в ответ на сигнал реальности, - не было там ничего похожего и нечему было вспыхивать. "Пили, безобразничали, дрались", - писал Горький о своих героях, и получалось так, что жили они в своей слободе без синего неба, летнего тепла, без всякого счастливого мига. Может быть, терялся я, мне пригрезилось что-то из фильма Пудовкина, но кроме крупных планов неистовой, гневной Ниловны я ничего оттуда не помнил и, значит, что-то другое было толчком к моему мнимому, выходит, узнаванию. Теперь я думаю, что мое воображение досочинило роман, прибавив ему чтото за счет собственных впечатлений от окраинного быта военных и послевоенных лет. А, может, и не нужно гадать, что сплелось и воссоединилось для меня в том моем открытии,когда единственность, новизна и окончательность мира, к которому был приписан и навсегда подчинен, были в одно мгновение прорваны, продырявлены его скрытой, твердой первоосновой, и он тотчас оказался возвращенным на свое совсем не окончательное место в историческом ряду. Сквозь видимые изменения проступило то, что не могло, не хотело или не имело достаточных оснований, чтобы меняться. В каких-нибудь пятнадцати минутах ходьбы отсюда, в пыльном сквере на бойкой уличной развилке гремел со столба динамик, беспрестанно напоминая народонаселению о неслыханной новизне и величии нашего времени, а здесь, где я шел, настигнутый своими нелепыми мыслями, продолжалась, - или без устали воспроизводилась, или - стояла! - вечная русская история, и я, - вот что помню лучше всего! - восприн51л это стояние не как что-то, с чем нужно смириться, а как неотводимый укор государству, власти, изменившей людям с рабочей, сормовской или костромской, - окраины.
Понимаю, в моем теперешнем воссоздании того далекого дня нет ничего, что несло бы в себе укор и тем более - обвинение: пили в девятьсот пятом, пили и раньше и позже, пьют сегодня и неизвестно, перестанут ли когданибудь пить вообще, а гармошка страдала и будет страдать, пока жива. Было бы очень просто "подогнать" свое описание под обличительную эстетику горьковского романа, и уж, во всяком случае, покрепче обосновать свое "открытие". Но что помню, то помню, а, если и опустил какие-то резкие черты, то лишь поддавшись воспоминанию о весенней благодати, покорившей и одарившей меня тогда,в сущности, очень одинокого в неосвоенном еще пространстве местной жизни. И, может быть, как нечто само собой разумеющееся, я опустил самую обыденную черту открывшегося мне мира: его бедность. Неподвижность бедности.
Несчастье и беда идейной, идеалистически настроенной молодежи - во все времена - в том, что, оглядевшись, она говорит себе: мир несправедлив, люди заслуживают лучшей участи. С этой убежденности многое начиналось, придавая жизни высокий, иногда единственный смысл, но заканчивалось чаще всего разочарованием, странной перевернутостью результата, тщетой всех усилий. Или усилия беспрестанно были не те, или вся участь, - любого из нас и всех вместе, - в каком-то наивысшем мистическом смысле заслуженна и ее никому не переиначить?
Вячеслав Иванов в семнадцатом году писал про "умников", смотрящих на народ "издалека и свысока, через подзорные трубки". Эти трубки по сей день в большом ходу, и выставленные в окна правительственных зданий, отрешенно и холодно поблескивают стеклами.
Молодые люди, рассуждавшие про участь, не были отдалены от того, что видели. И не были вознесены над тем, что видели. Может, главное-то их несчастье заключалось в том, что увиденное они принимали близко к сердцу. Я пишу э го, думая о многих молодых людях прошлого века и начала нынешнего. Сегодня их проклинают, над ними потешаются все, кому не лень и кому не стыдно. В бестолочи современности у нас всегда виноваты другие, не правда ли, не мы, а другие, далекие, инакие, смутьяны и коварные обольстители. Каждый за себя, - говорят нам, поучая, нынешние корректировщ ики жизни, время от времени отрываясь от своих подзорных трубок, - важно не видеть ,знать, быть, а иметь. Больше иметь, еще больше вам, лично, а про остальных пусть думают сами остальные! Нам и раньше говорили: лучше пом еньш е видеть, пом еньш е знать, ничего не принимать близко к сердцу. Так защищали наше здоровье, нашу безопасность, а они всегда в ладах с государственной безопасностью. Но я отвлекся, я этого не хотел, мне нужно было лишь напомнить об идеализме - бессмертном и бесценном свойстве молодой души, о ее отзывчивом и сильном воображении, без чего видеть невозможно. Видеть - несовпадение, разрыв провозглашенного, внушаемого и того, что есть.
... Под этим вечным небом, посреди восьмисотлетнего города я снова увидел неподвижность бедности, словно кто-то придвинул ее к моим глазам. Я и сам был вровень с нею, а то и ниже ее, но, свыкнувшись с нею, не осознавал как бедность, а принимал за чтото нормальное, естественное, объединяющее всех, кого знал. В домах за заборами, где сады и огороды, кто-то, наверное, жил вовсе неплохо и даже денежно, но все равно я верю себе, двадцатитрехлетнет^, тогдашнему, что отпечаток бедности, ее неизменности лежал на лицах и одеждах, на всех фигурах и предметах в той далекой картине. Она совместила в себе времена, сведя почти на нет промежуток между ними, и в моем восприятии, хранящем университетский дух пятьдесят шестого года, очень тихо и мягко, но твердо, отвергала самодовольство эпохи, привыкшей торжествовать и шествовать победно. Неподалеку отсюда эта эпоха или вернее сказать верховная сила, что охватывала нас и держала в своих объятиях, как некую унаследованную собственность, все расхваливала и расхваливала себя бодрыми и чеканными голосами радиодикторов. О, этот мотив заслуживал бы развития: какое острейшее ощущение своей неполной, неокончательной принадлежности себе и даже как бы в последнюю очередь такой себе-принадлежности жило в нас! Ведь раньше всего я принадлежал не семье, ни отцу и матери, а государству, власти, великой державе - через детский сад, школу, пионерские отряды и комсомольские собрания, через военкомат, наконец... Через прописку, приписку и разнообразную постановку на учет. И если кто-то принадлежал своей семье, то только потому, что еще не был востребован или призван к ответу. Но заглушу этот мотив до поры, заглушу, хотя он совсем не мой, не мной сочиненный, а давний, даже дореволюционный, один из сильнейших в нашей литературе, но заглушу, и не только потому, что не к месту, а потому, что дожил, увидел другое, неожиданное государство, по-пилатовски умывающее руки... Помню, как осенью пятьдесят седьмого неподалеку от облсуда меня окликнули. То были молодые юристы (один из них меня знал), выпускники разных институтов и университетов, человек пять или шесть. Их распределили в Кострому, и некоторые уже получили назначение в райцентры. Никого из них (из нас) не ожидала сладкая жизнь, и вряд ли у кого было легко на душе, но в лицах и словах светилась молодая вера в себя, студенческое братство еще не было забыто, и узы долга были чемто, к чему душа была издавна (генетически?) готова... Теперь же, говорят, свобода: летите голуби, летите, куда хотите! Как заведено в нашем отечестве, одна крайность (жесткая опека и подчинение) сменена другой (безразличием) . И не только к молодым людям, но к российским пространствам, где не хватает врачей, учителей, тех же юристов и т.д. Новое солнце пытаются зажечь для России - деньги, и новый внедрить закон: каждый за себя, один Бог - за всех, нового навязать героя - человека, извлекающего прибыль из несчастий своих сограждан и своей страны... Но и этот новейший, горький мотив лучше-ка я заглушу, чтобы все-таки дорассказать то, с чего начал, и восстановить свою логику того безумно далекого года. Она была проста и, возможно, чересчур: если ничего не изменилось или изменилось мало, то виновата власть. Я понимал, что что-то не должно и никогда не будет меняться, но вот что поразило: оставалось неизменным, словно застывшим, как раз то, что когда-то подвигало людей на борьбу за свое освобождение. И это означало одно: их дело нужно продолжать. Теперь-то покажется смешным и наивным, но с этим разрастающимся чувством я и приехал в Кострому, и новые впечатления-переживания (особенно от редакционных командировок) лишь укрепляли его, усиливая сознание правоты. "Борьба" - слово крупное и скомпрометированное, но слов уцелевших, необесценненых сегодня вообще мало. И хотя пели: "И вся-то наша жизнь и есть борьба", я оставлю это слово в покое: до "борьбы" я никогда не дотягивал, надо было иметь другой характер, но слова "противостояние" и "сопротивление" с прибавкой: "духовное", "нравственное" я осмеливаюсь применить, чтобы как-то определить линию поведения свою и своих дорогих друзей и товарищей, которых я узнал в Костроме. Но, чувствуя повышенную значительность и этих слов, я готов избежать и их, никак не называя то, как мы жили. В конце концов, это даже не моя, а чья-то задача. Впрочем, это всегда была чья-то задача: определить образ мысли, например, Николая Ш увалова или Виктора Бочкова. И сделать выводы. Но тех, кто определял, постоянно мучило: какова причина? "Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались?" (Прошу прощения это не из протокола каких-нибудь проработок, а из Гоголя, из его "Шинели", это, должно быть, наще вечное). Почему-то думали (так проще?), что главная причина - вражеские радиоголоса. Увы, из всех вражеских радиоголосов моей юности я с волнением вспоминаю один: мужественный голос Белграда, твердо произносивший (после позывных звуков из "Интернационала"): "Смерть фашизму, свобода народу!" Если же я сейчас что-то вспоминаю из прошлого, то, может быть, с невполне осознанной целью: понять, что же именно заставило м еня, нас, жить, думать, писать так, а не иначе, и упрямо настаивать на своем понимании вещей? Наверное, думаю я, у нас у всех были какие-то другие судьбы, если бы мы принимали этот мир не так близко к сердцу. И не столь серьезно. И без всяких лишних идеалов, без приступов сентиментального воображения. (Вот он, наш порок!). Все было бы иначе, если б мы вовремя освоили науку цинизма услужения силе. Если б видели всегда то, что нужно видеть именно сегодня, согласно последнему приказу, указу, постановлению. Но ничего уже не изменишь. Поздно. Это глубокий порок. Он мешал вчера, мешает и сегодня. Если б не он, как просто было бы вписаться в лучезарную картину наших дней, где, почти по Брехту, нищие нищенствуют, гулящие гуляют, воры воруют, ораторы ораторствуют, торгаши торгашествуют, бесстыдные бесстыдствуют, демократы донашивают демократические одежды, сталинисты п^елицовывают старые кителя, а бедствующие бедствуют... И старая русская поэтесса за несколько дней до смерти растерянно произносит: "Я чувствую, что меня нет и даже никогда не было"...
* * *Почему Александр Блок в двадцать первом году написал: "но не эти дни мы звали"? Он жил уже там, в том миропорядке, о котором предлагает нам тосковать кинорежиссер Станислав Говорухин, но что-то его не устраивало и он звал какие-то новые дни. Не те, что настали, но другие. Мы тоже вправе спросить себя, оглядевщись: а эти ли дни мы приближали своим трудом в меру малых своих сил? Да и просто жили, растили детей, - ради них ли?