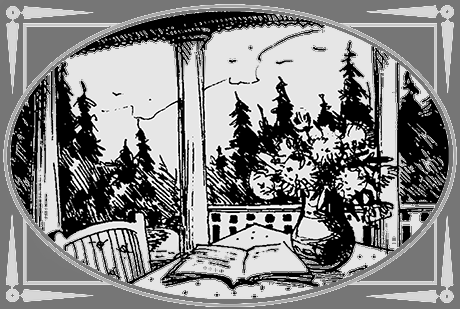
Последний Готовцев и конец Готовцева
У Ольги Кондратьевны появились на свет еще две дочери. Родители грустили от судьбы, лишившей их наследника, но о дочерях своих пеклись немало. Все три обучались и кончили Смольный институт, из которого вышли достаточно сведущими в поведении, приличном и благовоспитанном, а также и в приобретении знаний, наук и рукоделий, соответственных их полу. Своим вниманием и прилежанием достигли до отменного успеха и прилагаемым в том попечением, во время пребывания своего в Смольном, достойно воспользовались. Наталия, Александра и Варвара Ивановны Чалеевы были невесты с очень хорошим приданым, но, на горе, все три сестры задались телесно крайне неудачно. Сутуленькие, сухонькие, маленькие, они если и представляли собою что-нибудь привлекательное, то это только со стороны внутренних достоинств. Все три сестры были остроумны, хорошо начитаны и всегда приветливы, но в случае, когда надо было давать отпор, проявляли такую силу сарказма, насмешки и забавной склонности к карикатуризму, что их даже побаивались в обществе губернии и под шумок называли не «тремя грациями», а «тремя бестиями». Благодаря их соблазнительному приданому к ним все же сваталось немало народу, но «три бестии», несмотря на свои юные годы, прекрасно учитывали свои роли в этих сватовствах и твердо и решительно их отклоняли. Только средняя, Александра, не выдержав напора соблазнов мира сего, совершила брачную глупость, изменив и разрушив твердый союз «трех бестий». Но об этом впереди.
Подходила наполеоновская эпопея. И Чалеевы, и Готовцевы ходили под Аустерлиц и бежали оттуда. Хотя и в этом горестном положении дед мой, Николай Александрович, александрийский гусар, сумел взять в плен французский уланский эскадрон вместе с их полковником.
Жены ожидали своих мужей, сидя в усадьбах, и писали им нежные письма. Иван Иванович тоже ходил в поход, потому что чувство долга имело для него нечто неотразимое. А Ольга Кондратьевна, до сих пор еще влюбленная в своего мужа, не могла подрезать крылья своему орлу и сквозь слезы любовалась своим Ванечкой, благородным рыцарем чести, долго готовившимся к своему воинственному полету.
После Тильзита политики стали пророчить новую войну. И точно, в 1812 году Чалеевы, Иван Иванович и Николай Александрович и многие другие из их роду-племени, пошли на смертное ратоборство с проклятым Бонапарте. Многие Чалеевы командовали дружинами Нижегородского ополчения, некоторые попали и на Бородинскую баталию. На этом Бородинском поле пять Чалеевых – двое Ивановичей, один Александрович и два Геннадиевича – отдали свои жизни за родину.
Дед мой пошел за границу с обожаемым императором черт знает за какой нуждой, а контуженный Иван Иванович вернулся домой на поправку от контузии в объятия своей действительно прекрасной и бодрой Оленьки. В тридцатых годах Иван Иванович отдал богу свою дворянскую душу, а года через четыре за ним последовала и его верная Оленька.
Этот период времени был богат смертями. Умер также и Александр Кондратьевич Готовцев, и его сменил сынок, Сергей Александрович, который немало омрачил былую славу своих предков крепостническими отвратительными выходками, безобразным пьянством и даже кое-чем похуже.
Три сироты-«бестии» наследовали после родителей имения таким образом: старшая, Наталия, получила имение Туровское на Галичском озере, имение прекрасное, с деревнями и пустошами. По примеру своего деда, она в Туровском воздвигла очень хороший каменный храм, под стенами которого и завещала похоронить себя.
Вторая сестра, Александра, получила в свое владение имение Савино. А третья сестра, Варвара, не любившая деревенской жизни, взяла за себя городской костромской дом и всю там землю, прилегающую к нему, с фруктовым садом и прочим, в количестве четырех десятин, а также некоторое количество дворовых людей для услуг. Лошадьми, экипажами, коровами и кормами снабжали Варвару Ивановну сестры из своих имений, а также и продуктами – мукой, крупами, горохом, маслом и всякой живностью.
Вот в этот-то период средняя сестра Александра и изволила нарушить свое девство и нажить себе немалую заботу на много лет своей долгой жизни. В костромском губернском обществе появился молодой армейский офицер, высокого роста, с большими пушистыми усами, но с малыми способностями, однако ж с громадной глупостью, наглостью – кутила, игрок и дамский сердцеед. Каким образом благоразумная и расчетливая Александра Ивановна могла обратить свое внимание на того хамоватого армейского лоботряса, всегда останется одной из тайн женской психологии. Чем иначе назвать этот ее поступок, как глупостью – я не знаю.
Макаров, так была фамилия этого обольстителя, заметил богатую дурнушку и тотчас же повел на нее свои атаки. Не надо быть очень умным человеком для того, чтобы играть на слабостях ближнего своего с неизменным успехом. Если нельзя сказать избранной жертве: «Ах, как вы прекрасны, я готов часами любоваться вами», – то всегда можно проникновенно, значительно и даже восторженно произносить: «Ах, как вы умны, я готов часами наслаждаться блеском ваших чарующих речей». Если совершенно ясно, что телесную красоту вашей жертвы лучше не тревожить в общем объеме никакими комплементами, то все же остается, в частности, набор слов вроде «бездонных манящих очей», «белоснежного мрамора девстенного чела», «коралловых губ», «жемчуга зубов», «каскадов тяжелых кос» и, наконец, ручек, ножек… Вообще, нельзя не найти какой-нибудь удачной частности, чтобы от нее перейти к овладению всем «общим». Макаров начал свой поход на некрасивую, но богатую и родовитую Диану с каких-нибудь перечисленных частностей, а кончил тем, что женился на этой замухрышке, влюбил ее в себя настолько, что она перевела на его имя свое Савино, а ровно через год бежала от него, в ужасе от тех безобразий, которые этот прохвост чинил прямо на глазах своей супруги. Бежала она в Кострому, к своей сестре Варваре, и, избавившись от чар своего супруга, настолько очухалась, что сумела спасти от его якобы «законных» покушений свой довольно кругленький капиталец.
Макаров быстро спустил полученное женино имение Савино и с остатками полученных за него денег улетел в Петербург. Там он влачил довольно жалкое существование мелкого клубного игрока и, наконец, умер, к собственному и всех окружающих удовольствию. На петербургском Новодевичьем кладбище, если идти от Всехскорбященской церкви вправо по первой аллее, то по левую руку, во втором огороженном месте, среди других больших и дорогих памятников, найдете маленький мраморный обелиск, на котором написано, что под сим камнем погребено тело Александра Макарова.
В эту же пору сходил со сцены еще один герой той эпохи; когда почему-то, несмотря на полное еще процветание крепостного права, поместное русское дворянство уже сдвинулось со своих крепких фундаментов и поползло по наклонной плоскости к оскудению и полному упадку.
В то время, когда Макаров разделывался с жениным имением Савино и его хозяйкой, в Старом Готовцеве разгулялся внук Кондратия Федоровича – сын благонравного Александра Кондратьевича, Сергей Александрович Готовцев, отставной капитан гвардейской артиллерии.
Младость свою Сергей Готовцев проучился в Пажеском корпусе. Будучи в старших классах этого учебного заведения, он, с расшитым золотом задом и передом, в белых лосинах* и ботфортах** с раструбами*** и со шпорами, околачивался на дворцовых выходах, парадных обедах, торжественных приемах. Он с большим удовольствием стоял за стулом какой-нибудь Великой княгини, или княжны, или принцессы, ловил их каждое движение, соперничая с профессиональными придворными лакеями. Когда ему доводилось в числе других пажей нести многосаженный шлейф порфиры царя или царицы, он замирал от блаженства, так как полагал, что весь мир взирает на него с завистью; а когда он дежурил во внутренних апартаментах около кабинета самого самодержавного владыки и ждал ревниво своей очереди для какой-нибудь посылки за кем-нибудь из дежурных флигель-адъютантов, то он, Сергей Готовцев, прямо-таки изнемогал от всей тяжести возложенных на него государственных обязанностей. Кончил корпус он далеко не из первых, но все-таки вышел в гвардейскую артиллерию и участвовал в военных действиях. Под Силистрией**** он проявил большое мужество, и с двумя казаками прополз через турецкие секреты, дозоры, позиции, и явился в главную квартиру Дунайской армии, при которой находился в то время сам Николай Первый, с весьма важными сообщениями и бумагами. За сей подвиг Сергей Александрович был награжден Георгиевским крестом самим императором.
Несмотря на это, все тетки, не чаявшие души в нем, и все старшие кузины, обожавшие его, присылали ему на покупку креста столько денег, что если бы Сереженька-герой, ангел, заказал себе сделать на все эти деньги крест, то, пожалуй, крест получился бы не меньше сажени.
Кузинам и теткам недешево обошлась и мазь, которую Сергей Александрович высылал им по сорок рублей баночка. Мазь называлась «Стамбульская роза», она помогала от веснушек, угрей и прыщей, а также от выпадения волос, и содействовала увеличению или уменьшению бюста, смотря по надобности, и застарелые насморки снимала как рукой. Из чего делалась эта адски пахучая и, слава богу, не ядовитая дрянь, знал во всех подробностях только один батарейный фельдшер. Дороговизна этого снадобья объяснялась теми дипломатическими затруднениями, с которыми секретными, таинственными образами от самых любимых и самых красивых султанских жен, прямо из гарема, добывался этот фабрикат.
Какое очарование где-нибудь в Солигаличе, в Костроме и даже в самой Москве производило это снадобье! Мазнуть себя «Стамбульской розой» и засыпать в мечтах о жемчужных фонтанах и о прикосновениях не всегда скромных, хотя и невидимых рук! Во всяком случае, Сергей Александрович и батарейный его фельдшер, в бытность свою в Дунайской армии, в деньгах никогда не нуждались.
В Петербурге, благодаря знакомству со своим земляком, писателем П.А. Катениным, Сергей попал в литературный круг, и даже сам Пушкин однажды сказал ему экспромт, из которого Сергей Александрович помнил только две первые строчки:
Идешь направо – он торчит,
Налево… Боже, дай терпенья…
Готовцев уверял, что он был виновником того, что Пушкин написал «Руслана и Людмилу». Стоит только внимательно взглянуть на дело, и все проясняется:
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит…
Так иногда из пустяков рождается нечто колоссальное. Так иногда с первого взгляда незначительная встреча в гениальной голове превращается в перлы высокой поэзии. Одним словом, Сергей Александрович был причастен и к литературному кружку, и к созданию «Руслана и Людмилы».
Когда разыгралась история декабристов, Сергей Александрович сумел скрыть свое знакомство и землячество с Рылеевым, а когда все миновало и Сереженька сидел уже в своем Готовцеве, драл крестьян и приучал мирных поселянок к страсти нежной, он любил в кругу своих собутыльников говаривать:
– Да! Когда мы вышли на площадь со знаменами… – а дальше никто никогда не мог узнать, что случилось с ними на площади.
Последний Готовцев, прибыв в свое имение, сразу переменил отцовские и дедовские обычаи. Барщина вошла в полную силу. В горячее рабочее время угодливые бурмистры предоставляли в распоряжение мужиков только праздники. Оброки начались настоящие – то есть драли шкуру с живого и мертвого, и нередко бывало, что московские и питерские подрядчики платили барину по 1000 рублей серебром. Самый простой промысел и малоприбыльный самому промышленному барину приносил хорошие дивиденды, так как оброка меньше 20 рублей серебром вообще не было у молодого владельца Готовцева.
Он был человеком предприимчивым и любил делать все на широкую ногу. Вдруг взял в аренду почтовую гонку по Костромскому тракту и по Кинешемскому, завел массу телег, тарантасов парных и троечных, всякую сбрую. Дворовых посадил ямщиками. Без всякой церемонии, под видом барщины стал гонять крестьянских лошадей на близлежащие станции, а на дальних – завел свои собственные тройки. Но дело пошло без должного присмотра, сбруя раскрадывалась, овес лошадям не попадал, сено только вполовину доставлялось на сеновалы почтовых дворов. Лошади выматывались, тощали и падали, а за неаккуратную гоньбу надо было платить штрафы.
Полевое хозяйство пошло в имении плохо. И не так давно образцовая вотчина господ Готовцевых обратилась постепенно в беднейшую, состоящую из банды рабов, надсмотрщиков, пьяной дворни, а всем этим командовал неопрятный, одурелый от кутежей и пьянства барин. Пошли беспрерывные порки, сдачи в солдаты, привод смазливых девок и молодух для забавы пьяной барской компании.
В это время появляется на горизонте Готовцева так называемый «крестник» Сергея Александровича Готовцева – некто Георгиевский, однодворец из селения Шинжа, которое все сплошь было заселено однодворцами. И все они носили необычайно громкие фамилии: Пановы, Зубовы, Румянцевы и так далее. Георгиевский был незаменимым человеком у Сергея Александровича. Он придумывал кавалькады на коровах, пикники в женские монастыри. По его предложению сгоняли голых баб в пруды изображать днепровских русалок.
Народ терпел, но хмурился, и под спудом терпения назревала какая-то чертовщина.
В это время Сергей Александрович жил с одной своей крепостной девушкой, Ольгой по имени. Он держал ее в доме под видом «барыни». А она, на свое несчастье, имела глупость полюбить этого беспутного барина, а тот, тоже сдуру, влюбился в некую барышню Постельникову, которая гостила летом в имении Вальмусов, известном уже нам Курилове.
Готовцев стал ездить в Курилово и явно ухаживать за Постельниковой. Ольга, конечно, ревновала своего любовника к этой, откуда-то с ветру набежавшей сопернице. Постельникова же не принимала ухаживаний своего обожателя, так как дошедшие до ее слуха сведения о гнусной жизни Сергея Александровича никак не могли ей импонировать.
Однажды Постельникова, стоя на террасе куриловского дома и любуясь на панораму красивого Готовцева, заметила Сергею Александровичу, что, мол, очень жаль, что старый и густой сад скрывает старинный красивый китайский павильон. Ухаживатель ничего не сказал в ответ, но, вернувшись поздно вечером домой, немедленно велел придти бурмистру и приказал ему сейчас же, безотлагательно нарядить барщину и к утру вырубить весь сад. На следующий день, к вечеру, он опять был в Курилове и попросил Постельникову выйти на террасу, откуда она вчера смотрела на его Готовцево, и поглядеть на его усадьбу с террасы. Та недоуменно исполнила его просьбу.
– Ну, гляжу, в чем же дело? – спросила она.
– Ваше желание исполнено… вы теперь видите китайский павильон, – гордо ответствовал ей влюбленный самодур.
– Где? Ах, это там красненькая точка? Но где же ваш прекрасный сад? – спросила она своего ухажера.
– Сад, по вашему желанию, срубили до единого куста, – отвечал Готовцев.
Постельникова долго с любопытством рассматривала физиономию стоящего перед ней человека, могущего своим повелением, своей ничем не ограниченной властью что-то вырубать, уничтожать, ломать, но не могущего при своей неограниченной власти ничего сделать, кроме очередной глупости, а может быть, и преступления.
– Знаете, что я вам скажу? – тихо сказала возмущенная девушка.
– Что? Что? – страстно вопрошал Готовцев, ожидая похвалы своим действиям.
– Я вам скажу, что вы дурак! Вот что, – ответила она тихо, но убедительно. – Странно, что вы гуляете на свободе, а не сидите в сумасшедшем доме.
Так погиб замечательный фруктовый сад, с лабиринтами ягодных кустов, гордость покойного Кондратия Федоровича. Погиб труд многих людей, красота многих лет от дурацкого, уродливого жеста идиота-барина.
Сергей Александрович, в своих любовных исканиях, сделал однажды Постельниковой формальное предложение. Встав перед нею на колени, он со всей пылкостью собрался было изобразить всю безбрежность своих чувств, но девица Постельникова приказала ему встать и в трех пунктах ясно и твердо показала ему всю тщету его ничем не обоснованных надежд.
Первый пункт гласил о том, что все поведение ее по отношению к нему доказывает, говоря мягко, полное равнодушие к его особе. Второй пункт гласил о том, что она просит прекратить преследовать ее не только выражением своих чувств, но также даже и простым вниманием, хоть сколько-нибудь выходящим из ряда обыкновенных светских отношений, и… третий пункт гласил о том, что всякий порядочный человек, связанный известными отношениями с женщиной, которой предстоит вскорости быть матерью его ребенка, обязан позаботится о судьбе этой женщины и о судьбе своего ребенка, а не изображать из себя крайне омерзительную фигуру ухажера.
Пустое сердце Сергея Александровича отозвалось на такой категорический отказ только злобой к несчастной Ольге. Ольга являлась препятствием для достижения его целей, и если бы не эта Ольга, то он бы наверняка преуспел в своих исканиях. Третий пункт, объявленный ему Постельниковой, явно намекает на это. Постельникова ревнует его к Ольге, и надо только отделаться от этой помехи – и тогда дело будет в шляпе.
Состоялся совет с Георгиевским. Составили план. Кучер Готовцева Дороня и молодой повар Егор привлекаются как соучастники к заговору на жизнь бедной Ольги. В одну прекрасную лунную ночь Сергей Александрович приглашает Ольгу пройтись погулять с ним по саду. Удивленная, но также обрадованная, Ольга соглашается на такую интимную прогулку, которая напомнила ей прошедшие счастливые дни.
Она идет с ним по саду под руку и нежно прижимается к нему. Они идут все дальше, в глубину сада, и еще дальше, к пруду. Тут из-за кустов внезапно выскакивают Дороня, Егор и Георгиевский. Они хватают бедную Ольгу, зажимают ей рот платком и тащат в пруд. Втолкнув несчастную в воду, они стали держать ее под водой до тех пор, пока не прекратились всякие признаки жизни.
– Подержите ее еще в воде! – командует Сергей Александрович, – а то еще отдышится.
– Где уж тут отдышаться, готова совсем, – говорит Дороня. – А где рыть могилу?
– За колокольней, в кончинском поле, – шепчет Георгиевский.
Дороня с Егором уходят за лопатами, заранее уже приготовленными Георгиевским неподалеку. А Георгиевский шестом прижимает тело утопленной ко дну, чтобы оно не всплывало наверх, а пустое сердце Сергея Александровича не мешает ему в это время спокойно курить свою трубку.
Вскорости приходят Дороня и Егор с лопатами. Все кругом спит, и один только месяц видит, как из сада выходят четверо людей. Двое несут что-то, завернутое в простыню, третий шествует впереди, а четвертый замыкает кортеж, попыхивая длинной трубкой. Наскоро роют яму и опускают в нее бедную Ольгу. Сверху яму утаптывают и аккуратно обкладывают вровень с землей большими пластами дерну. Надо знать, что тут кто-то зарыт, иначе ни о чем не догадаешься. Сделано чисто.
Дальше начинается такая комедия. Той же ночью запрягают карету. Внезапно захворала барская любовница Ольга, и срочно барин вместе с ней выезжает в Кострому, с одним только кучером Дороней. В темноте еще к дому подается карета, и сам барин выносит на руках завернутую в шали и платки больную, садится вместе с ней в карету, и карета быстро съезжает со двора. Потом из Костромы в Готовцево шлется весть, что Ольге стало хуже и костромские врачи советуют Сергею Александровичу везти ее в Москву, к специалистам. А через месяц в Готовцево из Москвы возвращается опечаленный Сергей Александрович и рассказывает, что и московские врачи не смогли ничем помочь бедной его Ольге и что она умерла в Москве и погребена на Ваганьковском кладбище, о чем он привез документ от участкового квартального Пресненской части, который и показывал своим друзьям. Умерла его бедная Ольга, уж чего он только не делал, к каким только докторам не обращался, но все было напрасно… Злой рок пресек молодую жизнь… Ах, ах, как тяжела эта его потеря и как тяжело остаться одиноким…
Вернувшись из Москвы, неутешный Сергей Александрович, в сопровождении неизменного Георгиевского и преданных ему Андрея Дорони и Егора, частенько запирался в китайском павильоне и там поминал душеньку новопреставленной рабы божией Ольги. Вся четверка злодеев чувствовала себя неважно. Барин частенько приказывал служить заупокойные обедни, заказал сорокоуст*. Все эти службы совершал новый готовцевский священник, умный и строгий отец Григорий Кастальев.
– Странно поведение этого поганца, – говаривал отец Григорий частенько своему приятелю, церковному сторожу и пономарю Кондрату, страстному рыболову. – Что-то суетное видится мне в этих его молениях, и какое-то подозрение укореняется во мне… Странно и такое сближение всех этих людей, барина Сергея Александровича, проходимца Георгиевского и таких порочных рабов – Егора и Андрея… Странно… Очень, очень странно, – в раздумье повторял отец Григорий.
– А я, отче, прослежу-ка всех этих молодцов, – говорил отцу Григорию Кондрат.
– Смотри, осторожно действуй, Кондрат. Они люди сильные, и кто их знает, что могут сотворить.
Кондрат по-прежнему в свободное отцерковных служб и звонов время сидел в своем залое** в коротнях*** и ловил карасей, щук и налимов. Этот залой до сих пор сохранил за собой название Кондратова.
Звонарь сидел в своих коротнях и обдумывал способ раскрытия тайны этой четверки. Отец Григорий только покачивал головой. Рассказывавший мне все это старик Устин определенно не сомневался в том, что барин со своими холуями как-то уничтожил Ольгу.
Сергей Александрович стал бояться спать в одиночестве, однако он был совершенно уверен, что все было сделано шито-крыто. А Георгиевский запугивал Андрея и Егора, что если дело это всплывет каким-либо способом наружу, то отвечать за убийство придется только им двоим, так как топили-то девку они, а барин, желая их спасти, прикрывает их грех.
После всего этого Сергей Александрович опять попробовал сунуться к Постельниковой со своим предложениям «руки и сердца», но получил на сей раз от нее такой сокрушительный отказ, да еще в такой неслыханно резкой и страшной форме, что вернулся домой молчаливым, страшно бледным и, запершись со своим неизменным другом Георгиевским, запил длительно, как говорится, «в мертвую».
Все эти подробности дела, которые так и не выплыли никогда на свет божий, сообщил мне старый Устин. А все перипетии этого страшного преступления он узнал непосредственно от Андрея Дорони, который рассказал Устину всю эту историю лет через сорок после смерти Сергея Александровича. Устин рассказывал мне, со слов Дорони, еще такие вещи, о которых никто в уезде и не подозревал тогда.
Кондрат-пономарь подслушал как-то разговор Егора-повара с Георгиевским и был настолько неосмотрителен, что пригрозил Георгиевскому вывести всех их на чистую воду. Через три дня Кондрат был найден зарезанным в своей церковной сторожке неизвестным грабителем. В околотке ходили слухи, что у Кондрата водились деньжонки, поэтому к убийству этому отнеслись как к явлению, не выходящему из ряда естественных. Кондрат шинкарил помаленьку, копил деньгу, народ к нему захаживал всякий, ну и долго ли, мол, до греха? А было это дело рук Георгиевского.
После убийств в готовцевском околотке пошла настоящая чертопляска. Андрей и Егор не смели отставать от своего господина, да в пьяном виде эти негодяи чувствовали себя лучше и спокойнее, и не так на душе у них скребли кошки.
По ночам Сергей Александрович с Георгиевским, Андреем и Егором, в состоянии постоянного опьянения, вылезали из китайского павильона и отправлялись сначала к пруду, где вызывали Ольгу и ругали самыми похабными, отвратительными ругательствами, а затем, таясь от всех, бродили по дорогам и совершали всякие пакости – ломали изгороди и заборы, открывали ворота в поля, загоняли в хлебные поля пасущихся лошадей, поджигали в лесу заготовленные дрова, били в деревенских домах окна, на мельницах спускали воду…
Все эти пакости они творили, ловко скрываясь, всегда в разных концах округи, иногда в очень отдаленных деревнях. Встречных мужиков они били, а баб подвергали насилиям. Их долго не могли узнать, так как они свои подвиги творили, выходя всегда по-дурацки замаскированными. Но однажды, когда им попалась в лапы молодая красивая баба, то она запомнила, как один из схвативших ее обратился, по-видимому, к атаману шайки со словами: «Давай ее, Сергей Александрович…». Баба запомнила имя атамана и вскоре навела мужиков свой деревни на след этих таинственных озорников, творивших свои пакости в округе.
Мужики устроили слежку, и вот однажды, когда вся эта компания подобралась к сжатому уже овсяному полю, чтобы раскидать уже сложенные в кобылки* овсяные снопы, мужики их схватили и тихонько отвели на край своей деревни в сарай. Они разложили Сергея Александровича и Георгиевского, предварительно сдернув с них штаны, а Андрея Дороню и повара Егора заставили их пороть. Все дело происходило молча. Готовцеву невыгодно было орать по вполне понятным причинам. А Егор с Андреем не могли не пороть господ, потому что за каждый слабый удар их со всего маху лупили кулаками по зубам мужики. Драли их долго, на совесть, до тех пор, пока барские зады не стали кровавым месивом. Окончив порку, мужики сказали:
– С богом! А ежели еще что набалуете, то беда вам будет. Если тронете хоть одну бабу пальцем – себя не узнаете потом. Так и знайте – за всякое безобразие вас накажем, а тебя, прихлебало несчастное (это относилось к Георгиевскому), на первой же осине удавим. Сказано вам – знайте, что так и будет. А если жаловаться куда сунетесь – то и до Галича не доедете – конец вам наведем.
В предрассветной мгле, пробираясь росистыми перелесками, овражками, таясь за кустами, прибрели в свой китайский павильон эти уроды царя небесного.
Повар Егор твердо сказал своему совсем уже одурелому барину:
– Как хочешь, Сергей Александрович, а гульбе этой надо положить конец. Гони от себя этого прохвоста, этого шинженского черта, Георгиевского. С ним как раз всех нас повесят. Бывалое ли дело, чтобы барина мужики пороли? Сказать – не поверят, а тут, не угодно ли – вьявь расписали вас холопскими руками. Остепенись, барин! Грехов на всех нас налипло немало, всяких грехов. Будет уже с нас, больше не желаем. Мы тебе больше в таких делах не товарищи, так и знай!
И вправду, пришло их время остепениться. Тут как раз гром грянул – в усадьбе Бредниково помещицу Шигорину задушили свои же дворовые женщины за ее утонченные мучительства и издевательства. Эта садистка сама любила приводить в исполнение подлые приговоры, ею же вынесенные своим поданным, из которых выщипывание волос на некоторых скрытых частях тела считалось одним из легких наказаний. Ночью все дворовые женщины, числом около пятнадцати, вошли в опочивальню своей барыни и сообщили ей, зачем они пришли. Потом все эти бабы взяли в руки – кто подушки, кто скатерти, и вообще, что-нибудь мягкое, повалили на кровать свою стерву-барыню и, несмотря на ее просьбы пощадить и обещания больше не творить таких жестокостей и исправиться и ее неистовый плач и крик – задушили. Все бабы по очереди держали ее за руки и за ноги и давили ее всякой мягкой рухлядью.
Казнив свою мучительницу, они прибрали ее как должно, в приличный вид, уложили честь-честью в кровати под одеяло и ушли. А утром по дому прошел слух, что барыня ночью в одночасье померла. Явился какой-то наследник и хотел было поднимать дело о насильственной смерти, но устрашившись той массы грязи, которая бы неминуемо должна была выплыть наружу и вскрыть все дела покойной, решил дела не поднимать, и все было предано «в руки божьи», то есть забвению.
Времена подходили такие – уже поговаривали о необходимости реформ и крепостные наяву бредили грядущей свободой. А пятнадцать баб на скамье подсудимых – даже и для крепостнической эпохи дело не из обыденных, да и все поступки покойной со своими крепостными превышали всякие нормы дозволенного. Докатывалось, уже докатывалось крепостное право до своего конца. Подходил конец сороковых годов...
Сергей Александрович Готовцев, в своем дедовском имении, ходил по комнатам со своею длинной трубкой, в засаленном халате, в туфлях на босу ногу, напевал всякую похабщину и грозил кулаками в окна. Его все давно оставили, и никто из соседей к нему не заглядывал. Он стал для всех совершенно неинтересным...
Ему накрывали в каждой комнате столик с закусками и водкой, и он, разгуливая по анфиладе комнат нового деревянного дома, построенного после пожара еще его отцом, подходил к этим столикам и вел приблизительно такой разговор сам с собою:
– Сергей Александрович, пожалуйста, закусите, – приглашал он сам себя. – Да право, не знаю, чем бы таким, – отвечал он, шевеля пальцами. – Разве что под груздочки попробовать?
– Обязательно, под груздочки… милости прошу…
Сергей Александрович выпивал рюмку водки, закусывал груздочком, жмурился, крякал и снова начинал беседу сам с собой:
– Ну, водка своя, три раза перегонная, не водка, а просто лава какая то… груздочек слаще всякого лобзания… Стерва покойная Ольга так не могла солить… – и прищелкивая пальцами, гримасничая перед зеркалами, он переходил в следующую комнату, и там начиналось опять то же самое:
– А, Сергей Александрович, сколько лет, сколько зим! Давно не жаловали… Прикажите-ка зверобойчика…
А у какой-нибудь притолоки стоял старый его камердинер Гордей, служивший ему с детских лет, сокрушенно смотря на своего питомца, спившегося, несчастного барина, над головой которого собралась новая беда.
Готовцево было давно заложено, спившийся владелец перестал платить даже проценты, и имение должно было продаваться с молотка. Часть долга покрыла Александра Ивановна Макарова, внучка покойного Кондратия Федоровича, кузина свихнувшегося Сергея Александровича, но большую часть имения купил с торгов тульский помещик Иван Иванович Барыков.
Вскоре Сергей Александрович умер, не смогши пережить позора, попав в приживальщики к своей кузине. Похоронили его в готовцевском склепе, на левой стороне, в маленькой нише. А верный камердинер его, старый Гордей, на свои деньги поставил над прахом своего питомца маленький мраморный памятник и каждый день ходил на его гробницу, оплакивал своего барина. А я думаю, что Гордей оплакивал не барина, а свою собственную, так жестоко и глупо прошедшую жизнь около какого-то вечно пьяного, сошедшего с круга человека, который почему-то назывался его барином, почему-то имел своих крепостных рабов и право распоряжаться ими. Я думаю, что Гордей плакал от обиды, что ему, совсем уже старому человеку, некуда больше идти, нечего начинать, а надо как-то кончать свою нелепую, печальную жизнь, прошедшую мимо настоящей жизни, и пора ему лечь рядом со своим барином, памятник которому он поставил из своей лакейской гордости.
Александра Ивановна Макарова вступила во владение третьей частью дедовского Готовцева, с домом, построенным Александром Кондратьевичем. А две трети стали собственностью тульского помещика Барыкова.
Барыков оказался довольно гнусным соседом и вел себя весьма гнусно. По субботам драл своих дворовых, водил к себе крепостных баб, пил и, вообще, оказался крепостным гадом, и к тому же сутягой. Он всегда с кем-нибудь судился. Он построил себе в том же селе Спасском-Готовцеве тоже большой новый дом с бельведером, как раз на границе своих владений с Макаровой, для того, очевидно, чтобы «Макариха», как он звал ее за глаза, портила себе печенку лицезрением нового соседа, обосновавшегося на старинной готовцевской земле.
В новом доме Барыков, правда, жил недолго, а вскоре перебрался из него в какой-то старый, маленький, перевезенный откуда-то, необычайно глупой архитектуры, с очень малым количеством комнат, но с громадным числом чердаков, балконов, подъездов, крылец и прочего. А переехал Барыков из нового дома в этот, по его объяснению, по одной причине, что его из большого дома выжили черти. Случай необычный в истории демонологии, иначе – чертоводства. Обыкновенно черти имеют желание заводиться в старых, почтенных домах, где прожили уже ряд поколений, ознаменовавших свое существование всякими доблестями, а тут вселение чертей в новый дом совпало с его освящением, произведенным новым владельцем Готовцева очень торжественно. Иван Иванович пробовал терпеть некоторое время совместное житье с нечистой силой, но однажды нахальство чертей превзошло всякие меры, и Иван Иванович вылетел из дома на двор в одних, с позволения сказать, подштанниках и объявил всенародно своей ключнице, одноглазой тулячке Варваре, и своему наперснику, кучеру – он же и повар, он же и лакей, он же и управляющий, он же и собутыльник, тоже вывезенный из тульской вотчины вместе с другими, – черному и худому, вечно кашляющему Климентию, что ноги его больше в этом проклятом доме не будет отныне и довеку, на что кривая ключница Варвара сказала ему:
– А ты, Иван Иваныч, пей больше – так и сам скоро в черта обратишься, и так чутки только не дошел.
На стороне Макаровой все было по-иному. Для мужиков опять наступили времена Трояновы. Барщина пошла легкая, по системе «помочей». Барыня – Александра Ивановна – была приветливая, ласковая, доходчивая. Никого не обижала. Около нее вырисовываются две фигуры. Первая из них – фигура горничной, Екатерины Дмитриевны, подруги Александры Ивановны еще с детских лет. С барышней она была в институте, ухаживая за ней, выучилась не хуже своей барышни французскому языку, приобрела знания всяких наук и рукоделия, свойственных ее полу, с большим вниманием и прилежанием всему училась и ни в чем не отстала от своей барышни. И была настолько мила и ростом своим небольшим и некоторою сутулостью настолько напоминала свою барышню, что, ради забавы, Александра Ивановна одевала Катрин в свои маскарадные костюмы или просто в домино* и в своем экипаже отправляла ее в дворянское собрание на балы, маскарады, где Екатерина должна была «интриговать» кавалеров, а в особенности самого Макарова, а потом пересказывать ей все, что они говорили, как любезничали, и умирала со смеху, когда Катрин рассказывала ей, как эти чающие богатых невест кавалеры целовали ей ручки и ей, крепостной девке, изъяснялись в своей любви, думая, что перед ними находится богатая наследница готовцевских поместий и прочих благ.
Эту Екатерину Дмитриевну я застал в живых маленькой, чистенькой старушкой. Над ее головой пронеслось немало бурь. Первое горе над ней разразилось, когда Макаров, женившись на ее барышне, чуть ли не через неделю после свадьбы обратил на нее свое благосклонное внимание и сделал ее своей наложницей. Когда она стала беременной, ее спешно выдали замуж за крепостного мастера, столяра-краснодеревца Арсения. Арсений никогда ничем не тронул свою подневольную супругу, не попрекнул словом. Так они и прожили свою совместную жизнь до самой смерти Арсения, оставаясь друг другу чужими людьми. Родившегося ребенка назвали Дмитрием и записали в законные сыновья столяра Арсения, который обучил его своему столярному ремеслу и лишь перед самой смертью открыл ему тайну его рождения. А Дмитрий Арсеньевич до самой своей смерти попрекал свою мать, Екатерину Дмитриевну, и старуха немало слез пролила от незаслуженных обид.
Пока была жива Александра Ивановна, Екатерина постоянно навещала ее и была добрым гением Александры Ивановны. Она умела отводить всякий гнев своей бывшей барыни. Много добра получили готовцевские крестьяне через ее хлопоты, особенно в момент выхода из крепостной неволи на свободу. Благодаря содействию Екатерины при нарезке земельных наделов макаровские крепостные крестьяне, выйдя на волю, остались не лишенными лугов, выгонов, кое-каких лесишек.
Я помню, каждое воскресенье Екатерина Дмитриевна, выходя от обедни из церкви, заходила к нам в дом, к моей матушке, тоже Екатерине Дмитриевне, и пила у нее чай. Эту старушку в нашей семье все любили и уважали. А я с детства любил слушать от нее бесконечные рассказы о прошлом, и живая старина вставала перед моими глазами. Яркие картины разворачивались передо мною, и вся наша округа наполнялась живыми людьми. Кладбища и склепы раскрывали свои могилы, и из них толпою выходили на божий свет смеющиеся, говорящие, сердящиеся господа, в кафтанах, фижмах, пудреных париках, с наклеенными мушками – люди прошлого века. Они важно прогуливались по аллеям готовцевского сада или шестериками в золоченых каретах подъезжали к громадному дедовскому каменному дому, вместо которого теперь лежат лишь груды всякого штукатурного мусора, заросшего крапивой и другими травами. То гневные, то добрые, то хитрые, то простодушные, то развратные, а то и добродетельные – они проходили перед моими глазами, ожившие властью тихой, плавной речи прожившей сто четыре года свидетельницы прошлого.
Вторая фигура, близко стоявшая около Александры Ивановны, была жена бурмистра Фирса Петровича Воронова – Татьяна. Фирс с женой были вывезены из уфимского имения Чалеевых. Он был татарского происхождения, скуластый, чуть раскосый, коренастый, с не очень пышной растительностью, с длинными и тонкими, так называемыми «китайскими» усами. Он представлял собою тип истинного инородца. Его дикая любовь к лошадям и особенное умение обращаться с ними как бы подтверждали его степное происхождение. Жена его, Татьяна, красивая, смуглая, черноволосая баба с горящими глазами, даже повязывалась как-то по-татарски и из-под платка выпускала две толстенные косищи. Она любила навешивать на себя всякие мониста, но во всем остальном имела мало черт восточных женщин. Она была страшно властолюбива, со своим Фирсом делала что хотела, и крутила им по-своему – в чем не было ничего удивительного, так как Фирс души не чаял в своей Татьянице, но она и барыню сумела прибрать к своим рукам. По ее просьбе барыня подарила Фирсу двадцать десятин отличной земли – пахоты – и луга в самом центре своих земельных владений и выстроила ему из лучшего леса в Готовцеве-Спасском большой дом, который набила всяким домашним инвентарем. Многое Александра Ивановна дарила своей любимице, а еще больше та тащила сама, пользуясь бесконтрольностью и полным доверием барыни.
Все это было бы еще ничего, но власть Татьяны стала распространяться и на дворню. Кое-кого стали потаскивать на конюшню. Так, ни за что ни про что, за неловкий ответ Татьяне, отстегали на конюшне горничную Сашу белую, а старшего кучера, почтенного Ивана Филипповича, за то, что он показал татарке Татьяне сделанное из полы кафтана свиное ухо, стащили на конюшню и всыпали десять горячих, пообещав в другой раз «спустить шкуру».
Овечья доброта Александры Ивановны довела бы Готовцево до того, что порки, дранье и всякие строгости укрепились бы, на манер барыковской части Готовцева, если бы Татьяна вдруг не захворала и вскорости не отдала богу душу.
Татьяну же сменила в милостях у Александры Ивановны новая жена Фирса – Настасья Макаровна. Эта женщина обладала секретом покорять сердца земных владык. Барыня Макарова, только что успевшая отдохнуть от напористой власти покойной Татьяны, снова попала под иго, и оказалось, что на ней сидит другая верная рабыня.
Власть этой Настасьи была другого рода. Она не вводила никаких телесных наказаний, и в Готовцеве снова прекратились порки – с этой стороны все было благополучно. Но страсть к стяжанию у Настасьи была несомненно больше, чем у покойной Татьяны. Чтобы удобнее было держать под своим наблюдением стареющую и дряхлеющую барыню, Настасья постепенно, со всем семейством своим, вползла в барский дом. Старшую дочь Фирса и Татяны, Анну, она устроила к старухе-барыне лектриссой. Это сделать ей было нетрудно, так как Анна Фирсовна воспитывалась при Галичском женском Новодевичьем монастыре, была хорошо грамотна и внешне отлично воспитана, даже носила корсет, знала правила поведения в господском обществе и умела читать по-французски. Анну Фирсовну поселили в мезонине.
В секретари к тетке Александре Ивановне взяли некоего Николая Григорьевича Кастальева, сына готовцевского священника, отца Григория, который поселился в одной из комнат, прилегающих к барским покоям, и через его руки проходила вся переписка Александры Ивановны – как входящая, так и исходящая.
И вот старуха требовала к себе своего секретаря и начинала диктовать ему письмо к моему отцу, который был наследником имения Александры Ивановны, примерно следующего содержания:
«Дорогой Федосик… приезжай на все лето ко мне со всем своим семейством… Дом, слава Богу, немаленький, и стеснять ни себя, ни вас никто не будет… Перед смертью я бы поглядела на твою Катюшу и на миленьких деток твоих…»
Старуха так диктовала, а Николай Григорьевич писал так:
«Дорогой Федосик, я уже стара, где уж мне тревожить себя гостями. Дом невелик, а детки твои шумливы, всю голову от них проломит, да и Катеньке твоей будет скучно без общества сидеть с одними старухами…»
Получив такое письмо, отец недоуменно разводил руками и, конечно, не ехал после таких любезных приглашений навещать свою любимую тетушку. А старуха каждое лето ждала приезда своего любимого племянника и, чувствуя приближение конца, все чаще и чаще диктовала своему секретарю письма о том, что просит приехать его, чтобы закрыть ей глаза, ибо она чувствует, что жить ей остается недолго, а отец читал такое письмо:
«…В этом году лето у нас дождливое, что вы будете делать в такой глуши да в такую слякоть. Детки в комнатах оглушат меня совершенно, а Катеньке тоже будет скучно со мною сидеть в комнате да смотреть на старух…»