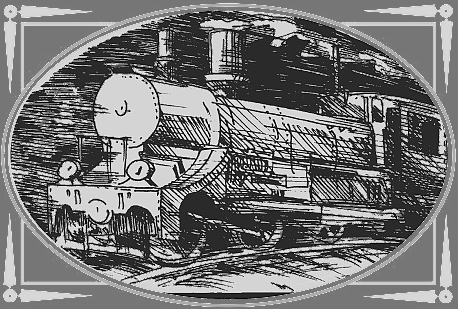
В дорогу
Как прошла жизнь человека, заслуга которого только в том, что он прожил 58 лет? Сколько ему предстоит еще жить, то есть видеть, слышать и чувствовать, не знаю. Хотелось бы просуществовать столько времени, чтобы успеть довести до конца задуманное.
Пестрой лентой развернулось мое существование и заставило меня быть вольным-невольным свидетелем кусочка истории. Не мудрым пишу – простым, чтобы не боялись думать и делать свою жизнь.
* * *
Масляная лампа, привинченная к бимсу*, светит тусклыми бликами по капитанскому «салону». Переборки белые, под лак. По бортам по иллюминатору, оправленному в медные, блестящие гнезда. По кормовой стенке диван-сундук, перед ним круглый стол, наглухо принайтованный** к полу. Перед столом два кресла. Передняя стена раздвижная. Левая дверь в капитанскую спальню, правая – на трап, идущий на палубу. Между дверями комод. Над ним часы и барометр.
Капитан Юргенс. Не высокий, не маленький, не худой, не толстый, но крепкий, как камень. Юргенс 35 лет ходит на парусных судах. Начал юнгой и к 50 годам дошел до капитана двухмачтового брига «Елиза» водоизмещением в 650 тонн и с командой в 14 человек.
Юргенс сидит на диване-сундуке. Я развалился в кресле. Ему 50 лет, мне 23 года. Перед нами по кружке того пива, которое можно достать только у Лейнера и бочки которого в трюме «Елизы» лежат под особым наблюдением кока.
– Вы хотите уходить в широкий свет. Это хорошо – я тоже уходил. Вы хотите море? Ничего, у вас крепки руки, крепки ноги и не совсем глупая голова.
Мы, шведские люди, ходим в океан, чтобы не толкаться на маленькой земле. У вас, русских, земли много, и если вы хотите в океан – ваше дело. Но знайте одно. Я тридцать пять лет в море, сорок раз т онул, двенадцать раз разбивался, три раза меня хотела кушать акула, я ни разу не женился, потому что тысячу раз влюбился – во француженку, немку, испанку, итальянку, англичанку, американку, японку, малайку, китаянку, русскую… я не могу перечислить всю географию – это долго. Я видел столько, сколько написано в толстых книгах. Я столько боялся, что перестал понимать, что такое страх. Я столько умирал, что, думая сам себя удивить, должен умереть на самом деле. Я начал шведским мальчиком и столько плакал, что уже никогда не плачу и столько смеялся, что уже больше не смеюсь. У меня в Фрими и в Лондоне в банке 30 тысяч фунтов, и я одинокий, и я кончаю капитаном, и совсем кончу где-нибудь на рифе, и меня пережует акула или высосет спрут. Вот конец хорошей жизни. Ваше здоровье.
Мы чокнулись и выпили.
– Гей.
Вошел кок, убрал пустые кружки и принес полные.
– Вы хотите или в море, или в театр – это я понимаю. В море или дрянь, или капитан, и в театре или дрянь, или… тоже капитан. Вы не любите своей жизни. Я и это понимаю. Жизнь плохая и люди дрянь. Я буду говорить, и мне наплевать. Во Франции республика, а где свобода, равенство и братство, золотые мешки командуют и грабят со всей культурой, и немец учит своих маршировать и хочет победить вас, и Англия ссорит всех. И Америка ждет, кому под процент деньги давать, а ваш царь, извините, идиот, не может себе найти помощников, и мазурики колпачат его, как хотят, и он думал, что его сам Бог помазал.
Все они люди, как это у вас говорят: бунда мать. Я не увижу, вы, быть может, доживете – будет такой аврал, полетит столько голов, что считать перестанут, и потому что честное, умное затыкают, вешают – им всем одна дорога: к бунде-матери – всем этим царям, королям, президентам. Ваше здоровье.
Мы чокнулись и выпили.
– Гей.
Вошел кок, убрал пустые кружки и принес полные.
Юргенс закурил громадную, вонючую сигару. Пустив несколько клубов сизого дыму, он опять заговорил.
– Теперь к делу. Вы завтра едете в Москву. Добрый путь. Здесь я стою до 15 августа. 18 августа ухожу в море. Жду телеграммы. Если вы провалилися, пишите: «“Елиза”, капитану Юргенсу, еду», или, если благополучно: «остаюсь» – и свой адрес.
Условия: если едете – то до Англии идете пассажиром, и помогаете коку, и присматриваетесь к работе. Из Англии на Мадейру пойдем с углем – уже будете матросом, а там – дело ваших рук, ног и головы. В море пойдете в бочке, пока пройдем зону. Папа будет сердиться, мама будет плакать. Напишите ей письмо ласково, она его будет читать и ждать вас. Вы хорошо грамотны и через пять-шесть лет приедете, быть может, шведским капитаном. Ну, теперь поздно – идите к маме, быть может, долго не увидитесь. Я полюбил вас, молодой человек. Ваше здоровье?
Мы чокнулись и выпили. Он проводил меня на палубу. Черная Нева стремилась к морю, куда и меня, быть может, скоро понесет моя страшная судьба.
По сходне я сошел на берег, еще раз крикнул Юргенсу «до свиданья» и пошел к городу, который, залитый огнями, шумел и был мне враждебен, неуютен и противен.
Прошло много лет, жизнь прошла целиком. От нее осталось всего несколько быстрых мгновений. Под старость жизнь подло быстра. Но среди многого забытого, очевидно, ненужного ярко вспоминаются темные переулки, которые выводили, мимо Балтийского завода, мимо двора Великого князя Алексея Александровича (тогда еще были Великие князья), мимо ворот Новой Голландии, по Тюремному переулку, в Офицерскую, где тогда жили отец с матерью, против новой синагоги.
С чувством постоянной вины – так уж повелось в моем обиходе жизни – я позвонил. Отворила мне дверь наша кухарка. Я хорошо помню ее старое обличье, но имя позабыл. Отец был болен и лежал у себя в кабинете, а мать с сестрой сидели в гостиной и работали.
Я любил своего отца за его крепкий характер и за эту честность, с которой неудобно жить людям на свете. Эта честность не гнулась ни от каких давлений, и никакие ветра его, старого парусника, не заставляли менять проложенного курса по чести-совести. Я не виню его за то, что избираемый мною путь казался ему глупой затеей лодыря. Он, с детства попавший в корпусную николаевскую муштру, закаленный одиночеством ребенка среди формалистики окружающих его перетянутых мундиров, сумел стать более образованным окружающей его среды и, попав наконец со школьной скамьи на палубу парусного корабля <нрзб.> в чине мичмана, примкнул к той части нерядового офицерства, которая положила начало борьбе с линьками*, мордобоем и ненужным щегольством сумасшедшей быстротой, которая стоила жизни многим матросским жизням. Человек гуманный, требовательный больше к самому себе, и прежде всего к себе, он окружал сначала свое положение, а потом власть той настоящей справедливостью, которая не могла не импонировать соприкасающимся с ним людям, будь то офицер или простой матрос, – работали около него не за страх, а за совесть. Несмотря на то, что у него под командой не было ни битых спин, ни свороченных скул, не было и штрафованных, суда, которые были в его руках – старшего ли офицера или командира – блистали чистотой, матросы здоровьем, образцовой службой и настоящей боевой готовностью. Я не виню этого человека порядка, системы и долга – в том, что он не мог понять стремлений мало чем проявившего себя парня уже в тех годах, когда он в Черном море командовал тендером**.
Я заглянул к нему в кабинет. Он лежал в кровати и читал свой любимый исторический вестник. Он взглянул на меня поверх очков своими внимательными суровыми глазами и спросил:
– Ну, не передумал?
– Нет.
– Завтра едешь?
– Да.
– Твое дело, но помни, что актеры частенько умирают под забором. Несчастливцевы и Счастливцевы*** забавны, когда читаешь о них или смотришь на них с сытым брюхом. Все эти люди без завтрашнего дня. На тысячи их родится один Давыдов*. Твое дело. Если ты считаешь это своим путем – желаю счастья. Пиши о своем экзамене.
Мама встретила меня тоже глазами. Корь, дифтерит, нарыв в ухе, четыре двойки в четверти, две переэкзаменовки на лето – встречались такими глазами. В них почти звучало: «Коля! Коля!» Дорогая, милая мама! Как тебе будет больно, когда ты узнаешь, что твой этот Коля, в случае неудачи с экзаменами, болтается на какой-то посудине в море, где можно слететь с мачты, можно быть смытым волной и в том и в другом случае – захлебнуться в растворе карлсбадской соли.
Дорогая, милая мама, не задалась моя линия в жизни так, чтобы ты могла гордиться своим сыном. Ничего не могу поделать с собой. Прости меня: не выношу я того, что называется хорошее положение, обеспеченное положение, карьера. Во всех этих жизненных деликатесах я дурак, и все пути, ведущие к этим благам: похвальные листы, аттестаты зрелости, дипломы – прошли мимо и не манят меня. Я хочу знать все, но не так, как от меня требуют. От этих экспериментов со мной – холодно мне, скучно и нарочно хочется знать то, что не позволяют знать… Папа тебе объяснит, когда узнает о моем бегстве, что я поступил нормально, как настоящий мужчина. Он тебе объяснит, что идти в жизнь с голыми кулаками не позорно и что с моря многие приходили настоящими людьми, и предложит и тебе ждать меня таким же настоящим человеком… Он, я уверен, даже предпочтет море тому, чтобы я Аркашкой** перемахивал из города в город, хотя бы и по железной дороге.
Ох! Мамины глаза в припадках самого ослиного упрямства я не мог вынести, и с ревом ребяческого покаяния клялся матери на сто лет вперед быть хорошим мальчиком, и дня два-три старался, не всегда успешно, быть «хорошим, как другие дети». Но теперь во мне неудачник восстал против установившихся законов «правильно бытия» и хотел во что бы ни стало доказать, что и он годится на что-нибудь и что ему тоже есть место в жизни. Горевала? Погорюй еще немного, и мы примиримся на главном: жить – не значит строить карьеру, быть человеком – не значит носить какой-нибудь мундир или форменный сюртук, и право на жизнь дает не оклад за спокойное шествование по тропинкам привольных условий, но и всякий труд, конечно честный, будь то актер, матрос и… даже краснорожий землекоп, дядя Федор. Надо заработать право на чин Человека с большой буквы.
Сестра поглядывала веселей. Она еще совсем молода, только что кончила институт, прекрасно поет и тоже мечтает о другой жизни, не похожей на ту, что досталась бабушкам, матери и всем вместе взятым теткам. Она еще молода, успешна, недурна, как говорится, собой, командует матерью, побаивается отца, институт сжал ее кругозор в объем антоновского яблока. Поэтому она любопытна и ей интересно: чем кончится эта «моя» заваруха. Судьба, дай ей толку разгадать свою загадку жизни. Завтра вечером сяду в поезд и поеду пытать судьбу, предстану на суд людей, которые слились в моем представлении в одно чудовище, которое именуется одним словом, острым, холодным, как громадный гвоздь: «Станиславский». Когда я представляю себе это одно, которое скажет мне: «Иди в чертог мой»– или зыкнет в неизреченных презрении и гневе: «Изыди, закоснелый нахал», то я вижу себя малой-малой дробинкой, холодеющей от ледяного страха, точно громадный погреб ввалился в меня, неизмеримо малого, всей своей стужею, и только философствования о том, что одним лишним срамом моя каша не испортится, что в случае провала меня в будущем ждет Мадейра, Австралия и пр., наполняли мое неизмеримо малое решением мужественно дать бой.
Последнюю ночь дома я спал плохо. Время тянулось, как зубная боль. Часы били в гостиной, и из маминой комнаты им отвечали тоненьким звоном «дедушкины». Несколько раз зажигал свет, пытался читать о фокусах Дартаньяна, снова задувал свечу и снова ворочался с боку на бок. В окнах отсвечивали уличные фонари, изредка дребезжал по Офицерской извозчик, и только на рассвете августовского С.-Петербургского утра я наконец заснул и видел во сне, будто иду ивановской дорогой* между стенами высокой спелой ржи и нахожу целую подкову.
Нянька Феоктиста, нерехтская сибилла**, говаривала: «Переваляешься во сне в говнах – к богатству, подымешь подкову – к счастью в задумке».
Быть может, и к счастью.
День на отрубе тошен. И тут уже делать нечего и там еще ничего нет. Позиция между двух стульев. Домаялся до обеда и после него стал укладывать свой чемодан. Дюжина платков. «Остального по полдюжине, – наставляет мама. – Пожалуйста, платков не занашивай. Нужно тебе чего-нибудь на дорогу? Передай это письмо Мите. Береги свое здоровье. Пиши почаще. Не забудь 17-го поздравить тетку».
Говорить не о чем.
И когда пошли за извозчиком, я употребил все красноречие, чтобы отговорить маму с сестрой ехать провожать меня на вокзал.
Мать, по обыкновению, перекрестила на дорогу, сестра подскочила с грацией пансионерки на воскресном приеме, отец последний раз уколол небритым подбородком – и я очутился на извозчике.
На Николаевский вокзал!!!
…Старый Николаевский вокзал*.
С него Анна Каренина поехала в Москву устраивать грешные делишки своего брата и привезла с собой обратно смуту своей жизни и гибель.
Суета, толкотня, вытаращенные глаза в третьем классе и порядок, чистота, звяканье посуды, вкусные запахи и ловкое движение армии носильщиков в первом и втором классах. Тут больше провожающих, чем отъезжающих. Неизбежная свадьба с заплаканной мамашей во главе, пронырливые шафера, одурелый молодой и забытый около стойки папаша с Анной на шее.
Я рад, что меня никто не провожает, я уже начинаю погружаться в тот мир, где отвечу сам за себя: меня уже никто не направляет туда иди сюда. Носильщик приносит билет, забирает мой чемодан и с деловитым равнодушием заявляет:
– Можно садиться.
Я на верхней полке. Синий абажур на полукруглом фонаре не режет глаза. Чемодан за головой, чтобы не сперли. Пальто под головой, чтобы не вынимать подушку. Вагон набивается пассажирами. Дурацкая свадьба попадает в этот же вагон-люкс. Шаферы с букетами требуют купе «для молодых». Щеголеватый обер щелкает каблуками, тычет правой рукой к околышку своей фуражки. Эти люди во фраках, в пальто нараспашку, утыканные флёрдоранжем положительно мешают всем в вагоне. Мамаша кудахчет, просит кого-то «беречь», должно быть, молодую – пухлую, здоровенную, без пяти минут бабищу.
После второго звонка весь свадебный кортеж вываливается на дебаркадер, и, когда поезд трогается, все орут «Ура!» и громче всех вопит мамаша: «Ради Бога!» Это, должно быть, относится к молодому.
Поезд расходится, на стыках колеса отбивают свои ритмы, под которые удобно подпевать «По улице мостовой» и «Я хочу вам рассказать…».
В открытые окна врывается вместе с чистым, уже полевым воздухом неожиданный рев встречного паровоза, мелькают освещенные окна состава вагонов, еще несколько десятков ярких огней на путях и ширь пробегающих огородов, роща, Волковское кладбище и поля. Первая остановка будет только в Любани. Я соскакиваю со своей полки, подхожу к открытому окну, закуриваю и смотрю на проносящееся мимо оголенное Преображенское кладбище. Здесь хоронят бездомных, умирающих под забором, остатки человеческого крошева из медицинской академии и прочие отбросы того, что называлось людьми без определенных занятий. Воздух теплый, паровозные искры красно-желтыми пчелами мчатся мимо поезда к Петербургу. Летят и гаснут.
– Кажется, это вагон для некурящих, – тон хоть и козловатый, но, во всяком случае, принадлежащий человеку, знающему себе цену.
Оглядываюсь. Молодой, белобрысый, причесанный бабочкой у парикмахера. Бородка Генрихом четвертым, усы на каком-нибудь снадобье держатся глупыми стрелками, глаза, о которых говорить нечего. Уже напялил на себя амурную пижаму с розовыми отворотами.
Очень хочется треснуть по этой сытой роже, имеющей бытие, очевидное дело, на хорошей дороге, делающей, конечно, хорошую карьеру и только что завершившей свою очаровательную свободу прекрасной партией на благо потомству.
– Если грамотны, то читайте, – тычу я пальцем на дощечку.
– Для курящих… Извиняюсь. Моя жена…
Я высовываюсь в окно, чтобы ничего не слышать об его жене. Уже издали доносится сладковатый просительный голос: «Можно?» Это он царапается в двери своего Эдема.
Колпино, Саблино, Бабино, Тосна. Тук-ту-тук, ту-тук…тук – выстукивают колеса, выщелкивая свои ритмы. Теперь под этот аккомпанемент очень удобно напевать: «Спустилась тьма, и в сумраке полночи…».
После Любани, рюмки водки и изумительных пирожков залезаю на свою полку. Спать, спать, чтобы хоть на время спрятаться от того червяка, который сидит где-то около сердца и точит спокойствие и мужество.
Тук-тук-тук… С поездом летят мысли о жизни. Вижу себя мальчиком. Счастливое ли детство? Нет, странное. Вместе с представлением о том, что ветер дует оттого, что деревья качаются, ощущение старости. О людях я чувствую больше, чем они предполагают. Дети сложней и мудрей, с ними надо быть осторожней. Они прекрасно анализируют окружающие отношения старших, и никакими подловатыми сюсюканьями их не купишь. Все эти «бозе…», «мозе…» и прочие сладкие пошлости претят ребенку. Он больше всего ценит, когда с ним обращаются как со взрослым и не подлизываются с высоты иногда даже многолетней глупости.
Отец разговаривает с нами по-настоящему, возится с нами, бегает «по-настоящему», главное – по-настоящему. Все должно быть настоящим – тогда это ценно. Возится отец, бегает, и мы полны настоящего веселья и счастья. Когда ему это надоедает, он говорит настоящим тоном: «Довольно, ребята!» – и мы понимаем, что действительно довольно, и переключаемся на другую стать, серьезную. Мы знаем, что сейчас отец станет перед своей конторкой, раскроет бумаги и ему будет «некогда», он будет работать так же по-настоящему, как и возился с нами.
Материнские отношения к нам были такие же неигрушечные. Она была ласкова, нежна с нами, но никаких сиропов, никаких ландринов в наших отношениях не бывало. Когда она сидела в своей комнате и работала что-нибудь – она всегда что-нибудь шила или вышивала, – то играть около нее на полу было нашим неотъемлемым правом. Тут расставлялись оловянные солдатики, строились дома, ходили наши пароходы и корабли, и ни оглушительная стрельба: «Пу!», ни шипенье пароходов ей не мешали, не действовали на нервы, и всякие технические обсуждения о починке поломанной игрушки были настоящими, серьезными; и потому вера в маму была самая настоящая и авторитет ее был незыблемым, тем более что таких слонов, как она, ни одна мама рисовать не могла и таких ружей с прикладами из газетной бумаги ни одна мама делать не умела. Какое было счастье сидеть около нее, рисовать человечков и слушать, как она читала нам вслух «Щелкунчика», сказки Андерсена и другие прелести.
И когда в наш настоящий мир врывались какие-то «Митюсеньки», «Колюсеньки», «мамусеньки» – нас коробило, бесило, и мы уходили куда-нибудь подальше от этого вздора.
Когда мы первый раз в жизни попали в настоящую русскую северную деревню, то в наш замкнутый круг – отца, матери, деятельного старого деда, маминого отца, холодноватой бабушки, любившей лиловый цвет, нескольких дядей, блестящих гвардейских офицеров всех сортов оружия, – вошло новое, необычное для нас лицо, тоже настоящее. Перечисленный мною замкнутый круг близких нам был воспринят нами во всех деталях и существовал на фоне других фигур, разодетых в мундиры, сюртуки, платья, и мне всегда казалось, что около меня двигаются, говорят, едят, смеются, иногда даже замечают меня не живые люди, а только одни ожившие мундиры, сюртуки и платья.
И вот в эту сферу привычных образов ворвалось новое. Когда мы приехали в деревню, нас поразило прежде всего изобилие зелени, которой мы, выросшие на юге, не видели. Громадные березы, осины, мохнатые ели, золотые сосны, трава, в которой мы тонули выше головы, очаровали нас. Брат и я побежали в сад и на каждом шагу разевали рты от изумления. Кусты черной смородины, малина, земляника, красноголовые боровики и мухоморы повеяли на нас сказкой. Мы добежали до тенистого пруда и остановились от нового, непонятного нам звука. «Чики, чики» – раздавалось из-за соседних густых кустов. «Чики» замолкли, и вместо них раздался новый интересный звук, что-то вроде: «фис, фис». Мы стали подбираться поближе к звукам и, выглянув из-за кустов, увидели «мужика». В нашей любимой книге, сборнике стихов лучших поэтов, который назывался «Родные отголоски», над стихотворением «Я куплю себе косу новую» был изображен мужик в гороховце* на голове, в лаптях, в подпоясанной рубашке с ключиком, привешенным к поясу. И мы все это сразу увидели: и гороховец, и ключик, и лапти, и пояс. «Мужик». Он заметил нас и прищуренными, слезящимися глазами внимательно осмотрел нас.
– Откуда, ребята?
– Мы из Ростова.
– Из Ярославского, что ли?
Мы не поняли.
– Как звать-то?
– Я Митя, а это – Коля.
– Так… гостить приехали… а бабинька померши… Ну, будем знакомы. Меня зовут Иваном, а по батюшке Филипычем, а вы, стало быть, Федосеичи? Так?
Он отложил в сторону свою косу, подошел к нам и протянул для приветствия свою широкую, черную от загара руку.
– Ну, будем знакомы. Так Митя и Коля, значит. Ты чего в очках-то? Такой махонький, а в очках. Слаб глазами? У меня тоже глаза не дюже чтобы…
От него пахло крепким запахом здорового поту, махорки и ароматами скошенной травы. В его русо-седой бороде и в коротких усах навязло много травяных семян. Он присел около нас и стал набивать маленькую трубочку, оправленную красной медью, махоркой, которую доставал из кисета, спрятанного за пазухой. Я видел на своем малом веку солдат, матросов, денщиков, полотеров, хохлов в Ростове на базаре, видел извозчиков, крючников, но мужика видел только на картинках.
Дети влюбляются сразу, и я сразу влюбился в этого Ивана Филиппыча на всю мою жизнь. Его простая сердечность, изобилие всего настоящего полонили меня. Полюбя деревню без изъятия за все, я так же полюбил и того Филиппыча с его махоркой, ключиком, слепнувшими глазами и его короткой многодумной речью. Много времени я провел около этого старика, много книг рассказал он мне своими простыми речами; только нужное, насущное, и горестное и радостное, отслоилось в моей душе на всю жизнь, и на всю жизнь осталось желание, чтобы среди этих берез, елей, среди болот и полей, да и среди всего мира, люди жили и мудро, и счастливо.
Туки, туки, туки… Стучат колеса, приближая меня к неведомому, новому этапу жизни. Сон нейдет, а идет вереница дней прожитых.
Пансион, гимназия, учение. Первое установление законов правильной жизни – первое устремление к аттестату зрелости.