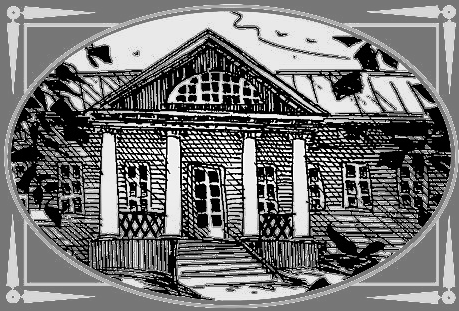
Усадьба Нелидовское и её обитатели
Среди столетних серебристых ветел стоит усадьба Нелидовское. Над старым, петровским, в голландском стиле домом десять самых больших, ветвистых и самых толстых ветел спутались своими вершинами. В доме, большом, с большими окнами, с пристройками позднейших времен, царит полутьма. В самой яркой комнате свободно читать можно только у самых окон с мелкими квадратными переплетами. Единственная светлая комната – это большой кабинет, выходящий своими окнами на двор, вокруг которого ветлы расступились широким кольцом.
В этой комнате по стенам развешаны всевозможные ружья. Целое собрание огнестрельного хлама, начиная от древних стрелецких пищалей и кончая английскими штуцерами времен Севастопольской кампании.
В углах стоят алебарды, офицерские шпаги и трости времен бабьего царствования на Руси*. Пистолеты, тесаки, палаши, вперемешку с миниатюрами предков и с литографскими портретами знаменитых рысистых бегунов густо заполняют собою свободные места стен, обитых выцветшими, полосатыми, изъеденными молью и мышами обоями.
На большом письменном столе красного дерева стоит бронзовая чернильница, в которую уже несколько лет не наливались чернила. Два подсвечника – один бронзовый, другой медный, базарный, случайно принесенный сюда из кухни. Весь стол усыпан и завален дробью, пыжами, бумажными патронами и пистонами, с краю привинчена к столу машинка для завертывания бумажных гильз. Окурки везде: в подсвечниках, в чернильнице, валяются на столе, под столом, на подоконниках. Один даже вставлен в рот мраморного бюста Лаокоона, стоящего в углу на белом каменном постаменте. На большом турецком диване валяются давнишние номера «Сельского хозяина», «Природы и охоты».
Других книг здесь нет. Зато если вы подниметесь по широкой лестнице в одну из пристроек, называемую «библиотекой», то вы удивитесь необыкновенному собранию редчайших книг по естествознанию и по истории, а еще более удивитесь тому, что вся библиотека завалена еще не распечатанными ящиками, хранящими в себе книжные сокровища, выписанные из Германии, и датам отправки этих книг из Лейпцига, Берлина и других городов, указывающим годы 1862, 1863, 1864. Моложе дат нет. За эти годы никто не притрагивался к ящикам. Только у одного сбита крышка, но так как содержимое ящика какому-то любопытному показалось непонятным, то дальнейшего исследования остальных ящиков никто и не производил. Запыленные, никогда не открывающиеся окна, портреты царей и цариц с их официальными улыбками. Курносый Павел в мальтийском одеянии, старая дама в капоте, идущая по аллее Царскосельского парка в сопровождении паршивой левретки, как будто гневными глазами встречает вас, нарушителя их покоя. Идут годы, годы и годы, и годы стерегут дом цари и царицы. Тут их владычество и над заколоченной в ящики и никому здесь не нужной человеческой мыслью.
Зимой и осенью здесь очень неприятно, воет ветер в печах и трубах, и скрипит оторвавшаяся ставня, да внизу по лестнице пробирается порою пьяный чертопляс. Угарное похмелье, дикое доживанье ни себе, ни другим не нужной жизни. Что же могло и когда поставить вас под таким углом к жизни, что вам остается теперь только пропадать с лица земли? Ну, и пропадайте, и чем скорее, тем и лучше!
Белая столовая внизу. Необычайный паркет – дуб и черное дерево. Лепной громоздкий камин с высокой бронзовой решеткой. Двери высокие: желтого клена с инкрустацией из черного дерева.
Гостиная синяя, полосатая. В углах печи античного рисунка. По стенам портреты в золоченых рамах. Мундиры, камзолы, фраки, бархатные и кисейные платья, голые покатые плечи. Перекрещиваются строгие взгляды, насмешливо, не мигая, следят за тобой и видят тебя, куда бы ты ни старался спрятаться от них. Из гостиной стеклянные двери ведут на террасу, широкую, спускающуюся широкой лестницей в сад, и от конца лестницы бегут во все направления старые, тенистые липовые аллеи. Кусты сирени, боярышника, бузины, заглушили все куртинки* и клумбы густым непроходимым плетнем.
И еще комната – с разрозненной, словно брошенной, но прекрасной мебелью, редчайшими образцами крепостного искусства.
Лакейские, девичьи, широкие коридоры, в которых устроены полати, где когда-то вповалку спала домашняя челядь.
Большой дом, точно брошенный, точно забытый жизнью. Хлопнет где-то дверь, и одинокий звук прокатится гулко по всем комнатам и замрет в каком-нибудь шкафу красного дерева, с оборванной, висящей на одной петле створкой дверцы.
Неделями подчас дом стоит пустым. И только, как фея этого преданного забвению и неуюту замка, бесшумно скользит из комнаты в комнату молоденькая, красивая, копия с английской королевы Виктории в молодости, тоскующая Катя. Приберет две-три жилых комнаты, посидит задумчиво в вольтеровском кресле около камина, испугается могильной тишины, которой аккомпанируют зловеще своим тиканьем петровские часы, и убежит в свою комнату, чтобы целыми днями читать. Некрасов, Достоевский – вот ее любимые писатели. Один наполняет ее жизнь чем-то реальным, знакомым с детства, а потому таким дорогим ей, а другой – мучает ее неведомыми ощущениями, в которых она улавливает всю муку и всю сладость жизни, такой далекой от нее, спрятанной за ветлами, пустыми комнатами и нераскрытыми книжными ящиками.
Ее секрет как бы скрыт от всех. Она без памяти, с самого детства любит последнего владельца этого дома. Это необычайно красивый, добрый и умный, но медленно и неминуемо спивающийся с круга человек, облеченный ее фантазией в величие ни с чем не сравнимого героя. Кто же она? Чей грех? Кто породил это красивое существо на белый свет? Старый, беспробудно пьяный повар считается ее дедушкой. Женщина, которая выкормила ее и считалась ее матерью, умерла, когда Кате было лет пять. И с тех пор жила она, маленькая, в этом громадном доме.
Дом постепенно пустел. Большая семья Готовцевых расползалась. Барышни повыходили замуж, молодые люди разбрелись по учебным заведениям, а потом по службам или по своим другим имениям, полученным в наследство от отца. Один Петр Кириллович и остался в Нелидовском.
Уезжая на зиму в Москву, где он учился в Петровской академии, он на Рождество и Пасху и на лето всегда приезжал в свое мрачное гнездо. Незаметно, как мышка, Катя в щелку следила, как ее кумир из красивого мальчика, потом юноши обращался год от года в красавца-мужчину. Среднего роста, стройный, черноволосый, с синими васильковыми глазами, он заворожил бедное Катино сердце.
Когда он уезжал в Москву, она терпеливо ждала его возвращения. Когда он, всегда так неожиданно, приезжал в Нелидовское, она точно пропадала куда-то, чтобы не нарушать его спокойствия. Не видимая им и не замечаемая, она окружала его жизнь той заботой, догадкой, тем предупреждением, на которое способна только любящая женщина.
Но однажды Петр Кириллович привез в Нелидовское хорошенькую миниатюрную женщину, Клеопатру Михайловну, которую он отрекомендовал встречавшим его приятелям как свою жену.
И в эту ночь Катя отравилась. Если бы случайно в компании молодых людей, собравшихся поздравить молодых с законным браком, не было одного доктора и если бы случайно он не был мертвецки пьян, как остальная компания, то Катя, конечно, умерла бы.
Петр Кириллович Готовцев женился на барышне из своего круга, того круга, где проходила его молодая, но уже в достаточной степени хмельная жизнь. Как произошла сама женитьба его, сам Петр Кириллович никогда не мог вспомнить. Раз утром, после здорового кутежа, его старый лакей, которого он звал «Панко», поздравил его с законным браком и доложил, что барыня ждут его кушать кофе. Это сообщение было так неожиданно для него, что он, даже не расспрашивая своего Панко, что и как было, поторопился привести себя в порядок и вышел в столовую.
В кружевах и лентах, в кокетливом чепчике за столом сидела Клеопатра Михайловна и нежно ему улыбалась.
– Вы, значит, моя жена? – спросил Петр Кириллович.
– Да, а вы мой муж. – ответила Клеопатра Михайловна.
– Простите, один нескромный вопрос. Вы не помните, когда нас венчали, я стоял ли на ногах? – поинтересовался Петр Кириллович.
– Вы дурак и невежа…
С этого момента началась супружеская жизнь этих редких молодоженов. Продолжалась она недолго. Года через два эта пара разбрелась в разные стороны. Он – в Нелидовское, в котором решил жить передовым помещиком и либеральным земцем, а она – с кругленькой цифрой тысяч, полученных за проданные Макарьевские леса и пустоши, – за границу.
В Нелидовском начались реформы. Завелось восьмиполье, появилась жатка-лобогрейка. На земских собраниях молодой и энергичный новатор взывал к мирно спящему Галичскому уезду, старался пробудить его от костенеющей лени, рисовал ему в скором будущем кисельные берега и молочные реки. Старался собрать вокруг себя все молодое, могущее, по его мнению, вписать новую страницу в книгу экономической жизни уезда. Скорбя о пороках и непроглядной темноте меньшей братии, он пытался шуметь о народном образовании на широких началах. Бился за угнетенных и оскорбленных и даже надел на себя цепь мирового судьи, и так нажал на угнетающих и оскорбляющих, что однажды был вызван к губернатору и выслушал отеческое наставление, после которого, вернувшись домой, подал экстренное прошение об увольнении от должности по болезни и, прокатившись на «вороных» на первых же дворянских выборах в губернии, плотно засел в своем Нелидовском.
Завел легавых, гончих, привел в порядок своих быстроногих кровных лошадок, еще дедовского завода, отменных рысаков, и стал жить, сплавляя свои лесные угодья понемногу с помощью местных лесопромышленников Мягковых и прочих стервятников. В вынужденном одиночестве он не был забыт. Все молодое, могущее начать новую страницу в экономической жизни уезда не забывало поверженного борца, и со всех сторон уезда, по пути и просто, без пути, катились к Нелидовскому тарантасы, запряженные не только земскими клячами, но и остатками прежнего дворянского величия. Началось пьянство.
Великое российское пьянство. Тупое, отчаянное, безвкусное.
Из восьмиполья ничего не вышло. Лобогрейку-жатку спьяна купил другой помещик-новатор, и, сдав в аренду все свои угодья, Петр Кириллович покатился колобком по уезду, сопровождаемый скандалами и пьяным гиком своих приятелей. По цыганским кочующим таборам, побратавшись с «цыганским бароном» одного из них, знаменитым когда-то Николаем, начал Петр Кириллович прожигать свои дни, подбиравшиеся уже к середине жизни. У костров, развалившись на подушках, в шелковой рубахе с расстегнутым воротом, теплыми летними ночами, одурелый от вина и диких ритмов таборных песен, прижавшись своим красивым смуглым лбом к крепкой груди цыганки Зины, – была такая чертовка! – он, словно раненый лось, ревел. О чем? О бессильных ли благих порывах, о бессилии ли вырождающейся своей породы, о скомканной ли, ернической, безлюбовной жизни? О чем он ревел? Никто не знал. Но только в такие минуты он гнал от себя своих собутыльников настолько убедительно, что даже первый его друг, трехаршинный чертище Баньковский, сторонился его и старался незаметно подальше убрать с его глаз все, из чего можно было палить или чем можно резать.
«Праздником светлым вся жизнь предо мною промелькнула, развернулась…»
Этот вымирающий барин, я уже сказал, был добр. Барин был добр! И не к своим приятелям. Он хорошо их знал и хорошо ценил. Добр он был к мужику. Не обижал. Не оскорблял. Пьяным угаром не вносил в их жизнь черной грязи, и каждая баба жалела его и не боялась покушения на свою личность.
Мужик верил ему и поэтому установил с ним человеческие отношения, которых днем с огнем не найдешь между такими разнородными фигурами, как помещик и крестьянин.
Спроси – даст. Нет у тебя – не потребует. «Ничего, черти, обойдется».
И за эту простоту мужик любил его и не обижал.
Где за порубки судили и штрафовали – там порубки не прекращались, напротив, увеличивались, но только совершались самыми хитрыми способами. У Петра же Кирилловича порубок не было. Мужики сами берегли его лес и не баловались в нем хищническими набегами.
Его лес – наш лес.
Когда в одну роковую грозу от молнии сгорела дотла ближняя деревня Жёлнино, бывшая в оны дни крепостной нелидовских господ, то Петр Кириллович прискакал одним из первых на пожарище со своими рабочими, отстоял от огня свезенный уже на гумна хлеб и, уезжая домой, просто сказал опечаленным, полуразоренным мужикам:
– Ничего, черти, обойдется. Скот ко мне на двор поставите, кому жить негде, переселяйтесь ко мне же, в баню, в людскую, в пристройки, в амбары. Рубите лесу в Королёвской даче на стройку сколько надо.
А Королёвская была под самым носом у жёлнинских, с версту, не больше. Лес был большой, сосновый. С осени рубить стали, зимой вывезли, и к другой зиме новое, сосновое Жёлнино стояло лучше старого. Когда Петр Кириллович зашел к мужикам на молебен по случаю внедрения в новые, большие избы, крытые тесом, на чем он особенно настаивал, то мужики спросили его:
– Как же мы, Петр Кириллович, рассчитаемся с тобой?
– Да никак… Если бы воровали, черти, лес, то его давно бы уже не было. Сберегли его, вот он и пригодился. Это вам, чертям, за добродетель да от отца моего и деда с того свету подарочек. Живите, и больше никаких.
Мужики про него говорили: «Простая, добрая душа» – и любили его. А Мягков и прочая деловая братия рассуждали иначе:
– Вот осел-то! Спьяна раскидывает свое добро. Под опеку таких-то надо. Дураки, и больше ничего. Развращает народ, сволочь, приучает к тунеядству и даровому. Эх, показали бы мы этим скотам «добродетель»!
Летом и осенью охота выгоняла Петра Кирилловича надолго из дому. То на Галичское озеро, за утками, то на Мисковские болота, по которым частенько погуливал и сам Некрасов.
Осенняя слякоть запирала его дома. Благодаря настоящему, гиблому бездорожью, даже Баньковский не мог пробиться к нему по непролазным топям, и Петр Кириллович в одиночестве отдыхал, так как без компании он не любил пить и не пил. Он тогда здоровел, полнел, глаза его теряли тусклый, ошалелый вид и опять начинали сиять веселым, добрым блеском.
В эти счастливые дни расцветала и Катя. Подавая ему обеды и чаи, она могла любоваться своим беспутным предметом, который даже и не подозревал, что рядом с ним и только для него одного живет, дышит и красуется молодая, прекрасная девушка.
Начинались зазимки. У камина, окруженный своими сожителями – четвероногими друзьями: громадной лосихой, старой козой, журавлем и парочкой крошечных птичек-бентамон, петушком и курочкой, – и иногда даже с книжкой старого «Современника» в руках, Петр Кириллович часами сидел, прислушиваясь к голосу ранней метели, которая шарила вокруг старого дома и приносила первый снег и первую санную дорогу.
Петр Кириллович сидел перед камином, смотря на огонь, а рядом с ним горой высилась туша лосихи, лежащей на полу, на ней рассаживались петух с курочкой, а между ног, прижавшись к громадному брюху лосихи, грелась коза и стоял рядом на одной ноге журавль, и на эту эдемскую картину, из темных дверей, из коридора, глядели два любящих глаза.
И вот в эту идиллию врывался звук колокольчика, приближались по первопутку сани. В комнату вваливался кто-нибудь из приятелей, чаще даже не один. И сразу тишина уходила в дальние комнаты, в темноту библиотеки. Катин рай прекращался, и она со вздохом принималась накрывать на стол.
«Запрягать!» – это было самое страшное для Кати слово. На следующее утро это «запрягать» несется по коридору вниз, с болью в сердце передается на кухне Катей, а оттуда приказ этот передается дальше, в людскую. С кряхтеньем сползает с полатей залежавшийся на них и до полной пустоты протрезвевший кучер Мосей.
– Ну, поехали! Не сидится дома, голове ежовой. Теперь всю нашу епархию перетрясем, а начнем, стало быть, с Арановского.
И через час две, а то и три тройки, забирая с ходу по легкому первопутку, играючи колокольчиками и бубенчиками, выносят уже развеселившуюся за завтраком компанию на большой Кинешемский тракт.
В город… к Громову… а там – глядя по фантазии.
Давно уже смолкли колокольчики, давно уже опять тишина сползла к лестнице, вылезла из старых шкафов и из темных углов и опять завладела старым домом. Ох, надолго это опять, а Катя все еще стоит у окна и грустно ласкает своей красивой рукой громадную лопоухую голову своего неизменного друга – лося.
Петушок с курицей уже забрались на свое любимое место, на раму портрета одного из напудренных готовцевских предков. Коза отправилась на кухню, а журавль стоит на одной ноге посереди гостиной, уложив свою длинную шею на спину, и думает с открытыми глазами…