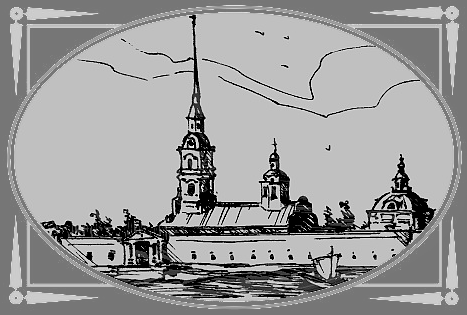
Дерпт. Ветеринарный институт
Чем дальше шла гимназическая жизнь, тем дальше я отходил от ее буден в свой мир, создаваемый мною самим. Я хотел знать и много знал из книг, знал гораздо больше, чем долбилось в казарменных классах, но колы и двойки сыпались на меня градом, так как один вид учебников вызывал у меня чувство протеста и самой настоящей ненависти. И я убегал вместо гимназии в Публичную библиотеку, где в величавой тишине, среди людей, серьезно занятых своим большим делом, зачитывался Белинским, Добролюбовым, Шульгиным. Я читал там все, что нам запрещали в гимназии. Я зачитывался настоящей историей. Знакомился с искусством и благоговел перед ним. Часто, швырнув свой ранец на печку в швейцарской, я убегал в Эрмитаж и целыми днями бродил завороженный тем, о чем читал в Публичной библиотеке. Я мечтал быть художником и по вечерам вместо того, чтобы просвещаться софистами и пифагоровыми штанами, чуждыми моей сущности, я уходил в Солекаевскую школу живописи и с горячим чувством восторга штриховал итальянским карандашом носы гипсовых богов. Я обманывал и отца, и мать. Я подделывал в бальниках подписи, сам писал в гимназию записки о своей болезни и творил всякие преступления, и чем больше накоплялось этих преступлений, тем более возрастала моя ненависть к источнику этих преступлений, к гимназии. Я развивался теми знаниями, которые приобретал в своих храмах. Не зная самой простой теоремы, я читал небо, как книгу, доступную мне, и Фламмариона с его звездным небом знал от доски до доски. Я не знал истории церкви, но я знал о тех великих преступлениях, которые совершили люди во имя этой церкви. Я оплакивал погубленную красоту древнего мира – во имя недопустимого, с моей точки зрения, божества.
Я ненавидел всех этих фанатиков, которые разбивали в куски драгоценную красоту мраморов и заменяли их уродством своих страшных святых. Я получал по истории колы за то, что не знал каких-то случайных анекдотов из жизни каких-то королей, пап, императоров, полководцев, но я уже знал о существовании тех сил, которые заставляли человечество передвигаться с места на место. Я знал, что все эти аттилы, чингисханы, наполеоны были только выразителями массовой воли. Я знал уже, как мало-помалу живые массы на заре всех культур приобретают самосознание, самоопределение, делаются активными руководящими, стремящимися строить зарю новой своей жизни. Я знал, как класс за классом выбивается на поверхность жизни и очищает дорогу будущей прекрасной жизни. Я погибал в гимназии, потому что не имел воли заставить себя выучить эту ненужную мне схоластику.
Театр, куда я устремляюсь сейчас, был с детства для меня тем миром, в котором я не мыслил для себя никакого действенного места. Театр был для меня храмом над всеми храмами, и я сидел в нем, растворенный, пришибленный. Ничего не понимающий в музыке, в балете, в этих первых театральных впечатлениях, я чувствовал только одно: что за этой занавесью, скрывавшей от меня чудеса необычайные, превышающие мою фантазию, открывается настоящая жизнь, которую люди украли у меня, заперли в громадное здание и пускают меня заглянуть на эту необычайную жизнь только по тому билетику, за которым еще задолго до праздников отец посылает курьера.
Я ничего не понимал ни в музыке, ни в танцах, ни в пении, потому что все эти очарования, взятые вместе, были для меня абсолютно реальными. Такой же абсолютно реальной была для меня деревня.
Если бы детство и юность гимназического периода не прослаивались деревней, для меня было бы абсолютно плохо. Не зефиры и ручейки составляли для меня деревню. Красивость природы в моем убеждении должна была быть таковой.
Природа, театр – из этого составилась моя жизнь.
Природа – сила, мускулы растущие, движение, жизнь для радости.
Театр – новые мысли, бег их, знание, зов постигать, что вчера еще покоилось во мраке незнания.
Рим, Лидия вспомнились, как будто я уже знал их.
Средневековье с Фаустом? Я их уже знал и ненавидел Валентина за то, что он не спас сестру. Он один мог это сделать.
Деревня – силы на долгую жизнь.
Театр – мысли на всю жизнь.
А когда я первый раз попал на драматическое представление, я почувствовал все то, что люди скрывают друг от друга – ложь, лицемерие, жадность, зависть, наглость, вечный обман, глупость, ханжество, подлость, шествующую по дороге широкой, и честность, пробирающуюся ползком.
Я увидел людей, ищущих того, чего нет в жизни.
И впервые вставший передо мною Гамлет, конечно, еще не понятый мною, пленил меня своим сомнением.
Драма открывала мне ту жизнь, которая пряталась от меня в приличиях, драпировалась условиями общества, замалчивала то, о чем надо вопить, и показывала за прекрасное то, что было уродливо. Отцы, дети, семьи, любовь, дружба – напугали своей несуществующей традицией. Исключение было ничтожно. С момента знакомства с драмой я стал много читать.
Театр, гимназия, деревня, чтение, драма, Публичная библиотека, Эрмитаж – дали развитие углом, разорвали связь с детством, ранили нагромождениями впечатляющих богатств, состарили, не вооружив для жизни ничем, так как никто не помог мне разобраться в несомых на себе тяжестях. Изготовился для жизни юрод* совершенный. В пятнадцатом веке я бы нацепил на себя вериги и пошел бы искать Спаса своего. В шестнадцатом – ушел бы в Запорожье и принял бы венец мученический в блаженной кончине на турецком колу. В семнадцатом – прилепился бы, конечно, к масонству и в поисках великого при всяком удобном случае кололся бы шпагами со всяким встречным, так как физической дерзости во мне всегда было больше, чем надо, пока я сам не унял себя за одно дело, до которого вам нет никакого дела.
Все это было в разных веках, но в девятнадцатом меня для начала, наконец, просто выгнали из гимназии, выдали аттестат, гласивший, что такой-то бывший ученик седьмого класса может идти на все четыре ветра.
Тук-тук-тук… Ночь идет своим порядком, и поезд идет своим порядком, прошел уже Мсту и Волхов и подбирается к Бологому – половина пути к Станиславскому.
Условия жизни, в которой я болтаюсь столь непродуктивно, таковы, что без всяких прав со своей стороны я могу устроиться неплохо.
Я имею право поступить в ветеринарный институт. Я его кончу и уеду в деревню. Я буду лечить Сивок-Бурок. Я представляю себе проселочные дороги, которыми пойдет моя жизнь. На паре земских одров я проеду свою жизнь, принеся известное количество пользы. Неплохо.
И вот я поступаю в Юрьевский ветеринарный институт. Одеваюсь в темно-синюю тужурку, натягиваю синие штаны с белым кантом, и я вновь вооружен для новых подвигов.
Юрьев. Дерпт. Тарту… Какой город, утонувший в кантовских аллеях! Какая река, быстрая, глубокая! Зовут ее – Эмбах.
Древний университет. Один флигель, говорят, современник Густава Адольфа. Древний город. Здесь жили Соллогуб, Языков, Жуковский. Они бродили в парке, называемом Домбергом, они видели развалины старого аббатства. Они катались в лодках по Эмбаху, гуляли по этим уличкам вдоль белокаменных стен, через которые перевешиваются яблони, сливы, сирень и жасмины. И я брожу, наслаждаясь новой декорацией нового действия моей жизни. Меня встречные бурши* ругают русской свиньей.
Ах, как любят нас, русских, в этой прекрасной стране! У меня такое чувство, что вот-вот кто-нибудь хлопнет меня по уху. А ведь мы явились сюда задолго до Грозного! Мы взяли туземный город Тарту и переименовали его в Юрьев в честь своего князя. Какое уменье привязывать к себе побежденные провинции!
Помещики, арендаторы всех калибров и рабочие в полной зависимости от людей, у которых руки привешены для того, чтобы насыщать свой живот, и которые опекаются баронскими синдикатами. Для утверждения их благополучия по прекрасным дорогам ездят исправники, становые и урядники.
Какие леса, какие поля, какие урожаи на каменистой почве, из которой веками вытаскивались громадные валуны и складывались в циклопические стены – вместо наших заборов!
Замки баронов, фермы, целые деревни из ферм, всюду по стенам вьются плющи и другие декоративные вьюны. Какой скот, какое его множество, множество машин, рабочие… И по прекрасным дорогам едут и машины, и рабочие, и исправники, становые и урядники. В школах ребятишек учат русскому языку, и его знают неплохо, по-матерному ругаются со всем рязанским совершенством.
На этот край испрашивают благословения Божьего солидные, степенные и образованные пасторы, сидящие в кабинетах своих пасторатов, заваленные книжными горами, и наши миссионерствующие попы, ничего общего не имеющие с нашими бедными затурканными деревенскими священниками-мужиками.
Живу я на Аллейнштрассе. Мой хозяин, старый Лео Р., настолько обеспечил свою жизнь многолетним управлением на юге России одним из имений Кочубеев, что смог жениться на некоей Матильде, бывшей бонне в имении тех же Кочубеев. Женился на склоне дней своих, и с женой вернулся в родной Дерпт, заведя в нем собственный домик и посвятив себя и фрау на последнее жизненное приобретение в лице маленького Лео, краснорожего мальчишки-немца.
Немецкий роман: «Когда я женийт на фрау, мне биль пятьдесят восемь годов, а фрау – сорок. Любиль мы себя пятнадцать годов, и Господь благословиль нас младенцой». Настоящий немец. Проживя в России тридцать лет, он не счел нужным выучить русский язык.
Какая чистота в чертогах этих Филемона и Бавкиды* – говорить не приходится. С утра до вечера чистят свое жилище и фрау, и сам герр, и краснощекая Лизхен, очаровательная здоровенная лифляндка. Я не помню ее без тряпки в руках.
Когда под влиянием каштановых деревьев или жасминных запахов мне приходила в голову радостная фантазия поцеловать полные, свежие, крепкие губы Лизхен, то я целовал их, но она всегда смазывала меня по физиономии тряпкой, пахнущей керосином.
Предупреждаю, что я только целовал губки Лизхен, мне даже казалось, что иногда она как будто отвечала на мои поцелуи, но отношения наши оставались чистыми. Вообще, повторяю, чистота была идеальная.
Когда утром Лизхен входила в мою комнату с чаем, я говорил ласково:
– Терра, терра, туюгрук. – Здравствуй, здравствуй, девушка.
Она отвечала мне всегда так же ласково:
– Терра, терра, нурора. – Здравствуй, здравствуй, юноша.
Прекрасное средневековье, хотя и без всякого Мефистофеля, и я ощущаю всеми своими девятнадцатью годами всю прелесть этой манящей, такой юной женской красоты, но я был или тоже чист и глуп, а был, может быть, и порядочен. Что бы ни было, но воспоминание о Лизхен вызывает во мне ясное, хорошее юношеское переживание.
– Терра, терра, туюгрук.
– Терра, терра, нурора.
Наш институт был старым зданием. Разбросанные около большого, затянутого зеленого тиной пруда клиники зоотомический корпус, бактериологическая лаборатория, образцовая кузница и анатомический театр составляли уютную, но серьезную группу моей «альма-матер».
Я охотно взялся за науку. Амфитеатр анатомической аудитории мне импонировал. Отношения были новые, серьезные. Знающие, серьезные люди, профессора, приходили в аудиторию, читали свои часы о большом новом направлении, по которому должно идти знание, и требовали этого знания с большой строгостью. Некоторые лекции были изданы, другие записывались и издавались группой товарищей. Товарищи были новые. Судьба многих была мне близка: уязвленные гимназией и другими учебными заведениями, исступленные труженики-семинаристы, исключенные из университетов за политику. Последние были почтенны в наших глазах, и они давали тон нам, желторотым.
С севера, запада, с востока и юга собралось тут народу немало. И когда за прекрасным пивом этот народ поет «Из страны, страны – далекой», то песня эта звучит убедительно. Мы пили пиво, и много пили, и кто из старых юрьевцев не помнит папу Неймана, Квистенталь, Газенкруг, кто забудет праздник Мартина Лютера*, когда на огонек вваливалась толпа веселых девушек и, потанцевав в своих пестрых костюмах маскарадного пошиба, убегала к другому огоньку.
Пили в Дерпте много. Пили студенты, фурманы**, бюргеры, немецкие, латышские и польские бурши в своих корпорациях: Курония, Ливония, Неубалтика, Люпиция и т. д. Все корпоранты*** носили шапочки и праздновали вместе со своими профессорами, старыми корпорантами. «Фукс-молодеш»**** – будущие корпоранты выполняли, кажется, первый параграф своего корпоративного устава, гласившего: «Чтобы уметь повелевать, надо уметь повиноваться». У каждого фукса в кармане находились федер и спички или зажигалка, так как давать закуривать старшим и откупоривать им бутылки приходилось чаще всего.
Каждый день корпоранты собирались в своих прекрасных помещениях и упражнялись на эспадронах-шлегелях*. Старая традиция. На немецком кладбище, в тихом углу, тридцать три одинаковые могилы, в которых нашли упокоение убитые когда-то на дуэлях.
При мне уже этих кровавых глупостей не бывало. Пистолеты были уже совершенно упразднены, и если кому-нибудь приходило в голову серьезно подраться, то такой поединок устанавливался судом корпорации, которая и выясняла правила боя. Обыкновенно отточенным оружием разрешалось драться при обязательной бинтовке живота и при шлеме на голове. Рубить можно было только верхнюю часть тела, и обыкновенно дело кончалось несколькими царапинами. Я не помню лиц или голов, забинтованных или заклеенных пластырями.
В мое время корпорантам не позволяли ходить по улицам в своих красивых деколях**, и поэтому они надевали на них черные шелковые чехлы, которые чуть-чуть отворачивали на околыше. И полиция была удовлетворена, и бурши были довольны. Знамен по улицам не носили. Только Вольное пожарное общество маршировало по городу со своим знаменем невозбранно.
Русское общество в Юрьеве было профессорско-учительское и чиновное. Был у них свой клуб «Родник», при котором действовал довольно хорошо организованный любительский драматический кружок, который и назывался, очевидно из политических соображений, «Императорским». Спектакли ставились не часто, но неплохо, и играли эти спектакли или в самом кружке, без афиш (так называемые «закрытые»), или в прекрасном театре одного чудака, богатого и глухого любителя драматического искусства (забыл его фамилию), или в Общественном собрании, в котором зимами игрывали разные малороссы, немецкие актеры из Риги или какие-нибудь гастролеры из Петербурга.
Мы, студенты, в массе своей мало имели дела с этим «Родником», так как это было место сборищ дерптского русского «бомонда», однако некоторые из нас, пошиба всюду проникающих «светских» людей, к тому же обладающих чистенькими тужурками, проникали туда и попадали даже в семейные дома этого бомонда.
Мы же, остальные, довольствовались студенческой столовой «Конкордия», в которой устраивались вечеринки землячеств и общестуденческие и которая давала очень неплохие обеды за самую низкую цену: от 20 копеек и ниже, вплоть до порядочного количества совершенно бесплатных обедов для товарищей совсем неимущих – а таких было немало, так как предложение студенческих услуг по педагогической части, ввиду обилия студентов, было так обесценено, что репетитор, получавший в месяц 3-4 рубля, считался счастливым.
Комбинации за уроки были всякие: за урок с двумя-тремя оболтусами и ежедневно – комната, за каждодневный урок – обед, за каждодневный урок – ужин. Один мой товарищ три раза в неделю занимался уроками математики и русского языка на следующих условиях: за каждый урок он получал два стакана кофе с молоком, кусок хлеба с маслом, правда, величиною с подошву, и 5 папирос.
«Конкордия» всех прокормить не могла, так как она была на хозяйственном студенческом расчете, и хотя и сводила концы с концами с помощью устройства концертов и спектаклей, но количество таковых было ограничено – максимум один спектакль или концерт в семестр, и на то надо было получать благосклонное разрешение властей; и получать такие разрешения было не совсем просто, ибо полиция и прочие власти умильно поглядывали на «Конкордию» и даже иногда производили ночные ревизии картофеля, капусты и прочих студенческих запасов, опасаясь, что «Конкордия» может служить пристанищем для «крамольного блудодеяния».
Что же – я, лежа на верхней полке вагона, думал обо всем этом? Конечно, нет.
Проносилось в голове одно за другим. И судьба моя, и неудачи – свои и чужие. Проносились и Дерпт с Аллейнштрассе, и алые губки Лизхен. Проносилось и то, что в своей будущей автобиографии я не хочу врать, будто театр был моим призванием с детства.
Повторяю – в театре я не отводил для себя никакого места. Все это было для меня так громадно, что я не ставил себя на место ни одного из этих великих людей (какими они мне тогда казались), которые размахивали руками, танцевали, пели, красиво разодетые, и обнимались с дамами, которые были тоже красиво разодеты и так же пели, и так же смотрели на палочку, которой им махали. Наконец, говорили, сердились, смеялись и смешили, плакали и заставляли плакать. О, они все были для меня такими великими существами, что и мнить себя между ними я не мог, так как даже тот счастливец, который говорил на сцене всего лишь: «Барыня, кушать подано» – казался мне недосягаемым артистом и смельчаком.
Я не мечтал о театре для своего персонального фигурирования, но дома любил производить при закрытых дверях своей комнаты то, что меня поражало на сцене. Когда за мной никто не наблюдал, я выкидывал всякие антраша, изображал древних стариков, влюбленным козликом подскакивал к стульям, изображавшим для меня красавиц, и этими упражнениями приобретал какую-то сценическую сноровку в движении и темперамент, с которым иногда и представлял старшим то, что видел в театре или наблюдал в жизни, и порой даже смешил своих близких.
В то время я был, повторяю, зритель – и только. И никаких преднамеренных вылазок в область искусства не делал. Хотел быть художником, хотел быть писателем. Иногда покупал себе краски и мазал ими, больше всего, окружающие предметы, а иногда и собственную рожу. Иногда задумывал длинный роман, покупал толстую тетрадь, несколько дней сидел над ней, выкуривал массу папирос, съедал две-три резинки для пера, и этим ограничивались приступы моего творчества.
Когда на меня нападал декламаторский зуд, я разгуливал по своей комнате и читал «с чувством, с толком, с расстановкой» Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого. Старался читать так, как читал Мамонт Дальский или кто-нибудь другой из моих кумиров. Я не подражал им, так как не обладал подражательскими способностями, но понимал и усваивал их художественную манеру, стараясь нащупать свою собственную. Я никогда никому не читал, только самому себе. Не читал потому, что стыдился, и только в кругу самых близких людей, как говорится, «распоясывался» и пускался во все тяжкие. В эти минуты я даже имел иногда успех. Но он не делал из меня профессионального болтуна, и если не было к тому каких-либо побудительных причин, слова из меня вытащить было нельзя даже клещами. Я стыдился фигурять и предпочитал слушать других.
Студенческая жизнь моя шла своим путем. Она мне нравилась. Лекции не имели ничего общего с гимназическими уроками. Профессора своей академической сухостью импонировали несравненно больше, чем запанибратствующие гимназические Брандты и разные классные наставники, своими принижающими личность попечениями нисколько не поднимавшие нас в собственном самосознании. Свобода пленяла, но она также и обязывала, так как чувство взрослого, ответственного перед собой человека господствовало и вытесняло воспоминания о зашибленном неудачнике-гимназисте.
Я хотел учиться, охотно посещал ботанику, анатомию, химию, физику, фармацевтику, сравнительную анатомию. Сами названия этих наук для меня звучали громко: Аналитическая химия, Органическая химия, Минералогия, Полеводство. Все это было достаточно объемно и значительно.
Если бы все пошло, как говорится, своим путем, я рано или поздно, но кончил бы институт и поехал бы по проселочным дорогам своей жизни до ее естественного конца. Но об этом подальше и в свое время.
Приближалось Рождество, кончался первый семестр. Полугодовые экзамены прошли блестяще, если бы я не заложил на весну химию. По анатомии я получил 5, по ботанике – 4, по физике у профессора Садовского – 5, а в гимназии у учителя Розенберга я всегда имел нагольный кол.
Для очистки совести я сходил даже к университетскому попу и сдал ему богословие – и тоже получил 5. Для такого блестящего экзамена в то время было нужно только протоиерея Царевского называть «господин профессор», но отнюдь не «батюшка». Когда Царевский размякал от «профессора», ему нужно было сообщить только, какая глава нравственного богословия особенно поразила мое сердце и голову, и об этой главе шла тихая беседа с «профессором», и результат был всегда пятерочный. Горе тому, кто случайно обмолвится «батюшкой». Тогда на сцену выплывало непременно догматическое богословие и визит к «батюшке» вторичный, весенний, был обеспечен.
Итак, полугодовые семестровые экзамены были благополучно сданы, за исключением самого страшного – химии. Я с легким сердцем и духом ехал домой на целый месяц. Поезд на Петербург отходил вечером. Ехало нас много. Как мы орали всю ночь песни, так поет только молодость – всем животом, всей глоткой. Студенчество дерптское пело:
Юность прекрасна,
Юность веселием полна-аа,
Выпьемте-ж, братья,
Чару до дна...
В девятом часу утра я тащился на извозчике с Балтийского вокзала домой, в Тюремный переулок. У меня не хватало сердца от нетерпения попасть скорее домой, а ванька* точно смеялся надо мною, чмокая губами, дергая вожжами, жаловался на дороговизну овса, нестерпимо портил чистый морозный воздух и положительно стоял на месте. Как я ни убеждал его, что через Литовский рынок ближе, он повез меня мимо Покрова, через Аларгин мост. Вот она, гимназия наша, «СПБГ», трехэтажная, серая, проклятая. Пока я проезжал мимо, я таращил ей кукиши, как кошевой Сагайдачный некогда показывал эту комбинацию пальцев Очакову.
Приехал! Событие! Коля приехал, в синих штанах с белым кантом! Мама рада, потому что двадцать лет назад в муках произвела меня на свет. Отец рад, потому что поотвык за четыре месяца от моей особы, да и кто его знает, чем черт не шутит – вдруг Коля дотянет институт до конца и станет человеком. Брат рад, потому что попросту любит меня. Вместе играли, вместе болели, вместе ненавидели гимназию. Но он организованней меня, хороший математик и будет хорошим инженером водных путей сообщения, а я – расхляба, отвратительный математик и паршивый инженер собственных путей в жизни. Противоположные, а противоположности – сходятся. Сестра рада, потому что ей будет с кем возиться. Одним словом, все рады, а я хожу в синих штанах, и улыбаюсь, и веду мудрые разговоры о мудрых законах природы, умалчивая о мудростях химии.
Брат сообщает мне, что объявился замечательный бас в частной опере в Панаевском театре. В первый же вечер мы на верхах этого театра. Слушаем «Фауста», Мефистофеля поет долговязый парень. Поет исключительно и играет не хуже того. Фамилия этого долговязого Шаляпин. Одни говорят, что он крючник, другие – что певчий, а третьи – что он друг Максима Горького. Но кто бы он ни был, он успех имеет громадный, особенно у молодежи. Мы не пропускаем ни одного «Фауста», и по окончании оперы собираемся большим хором; брат задает тон: до-ля-фа, и мы, глоток в двадцать, орем аккордом – «Шаля-я-я-пин», «Шааляяяпин»,– и орем так настойчиво, что он всегда удостаивает нашу капеллу особенно дружескими поклонами.
Шаляпин вынырнул вдруг и сразу произвел эффект, с которым и прошел свою блестящую артистическую карьеру и жизнь. Но я должен сказать, что для меня и для очень многих других Шаляпин не являлся чем-то небывало-прекрасным. Шаляпин – Шаляпиным, а Стравинский – Стравинским*. Чей голос лучше? Кто играет лучше? Кто был культурней? Приходится смолкать, ибо Стравинский кончает свою артистическую карьеру, а Шаляпин только ее начинает… Одно могу сказать, что Стравинский ростом меньше Шаляпина. Новый тенор, Секар-Рожанский**, так радовал, а теперь его уже нет. Ушел. Куда? Куда и мы уйдем. Уйдем, будь покоен.
Пишу, тороплюсь. Черт с ней, с формой. Важно то, что я знал то, чего ты не знаешь, а что знал ты – я не знаю. Скажем об этом, а кто-нибудь будет знать и больше твоего, и больше моего.
Коля ходит в синих штанах. Ему рады дома. Он читает новые книги, смотрит на брата, любит его и думает, почему он разлюбил одну девушку – стройную, нежную, нужную, и думает, что теперь любит другую – большую, может быть, даже толстую, с пухлыми губами, с торчащей пазухой и широкими, мясистыми бедрами. Поет эта большая, да еще учится на курсах историческо-философских. Поет, аккомпанирует ей брат и вслушивается в эти красивые громкие звуки, пустые, как громадная пустая комната…
Неужели ты не чувствуешь, что… Ну, твое дело… Ни мне, никому ты не поверишь, пока не пройдет пространство времени, за которым ты с болью в душе поймешь, что ни пения, ни историко-философии не было. Останется только потерянное время, о котором будешь сожалеть. Я уже сожалею о ненужном в жизни, пожалеешь и ты…
У отца с матерью прибавилось морщин. Неужели идете к концу? Не надо. Я не умру ни за что. Надо только поднатужиться сильнее, подпрыгнуть, и смерть отойдет.
Новый писатель – Горький. Босяк. Хорошо пишет, и жизнь уплотняется новыми мыслями, делается значительней, понятней.
Встретил на Морской императора. Маленького офицерика в Преображенской форме. Почему император? Почему ничего не может сделать?
Ерунда, Ваше Величество. Зайди к первому дворнику в подворотню, и он больше тебе скажет, чем все твои министры. Говорят, твой папаша любил дуть в какую-то трубу. А ты что любишь? Балерину, что ли? Чем вы делаетесь великими?
Зимние каникулы вышли, просыпались. Снова прощанье. Еду на Балтийский вокзал. Проснулся в вагоне. Везенбер, Топс, мост через Эмбах. И вот – Юрьев. Аллейнштрассе. Герр и фрау рады. Лизхен приносит кофе, и в дверь заглядывает краснорожий Лео.
Аудитории, лекции, товарищи, папа Нейман. Трещит огонь в печке. Товарищи – красавец-хорват, Мика – маленький белокурый человечек, Павлик Агафонов, донец, – сидим и читаем Горького. Лампа светит. За окном крепко поскрипывает под ногами редких прохожих мороз.
Страница за страницей открываются новые окна и неведомые Европе мысли. Здорово! Хорват играет на скрипке, я пою, у меня здоровенный, с большими низами баритон: Мика – тенор, донец– музыкальный Аполлон и поет каким угодно голосом. Мы часто собираемся и поем. Репертуар наш обширен. От «Накинув плащ» и до «Из-за острова на стрежень», а промежуточные номера – весь студенческий репертуар: от «Гаудеамуса» и до запрещенного «Медленно движется время».
Но второй семестр двигался очень быстро. Набежала ранняя весна, очаровательная в Лифляндии. Бурно прошел по Эмбаху лед. Сбежало половодье, подмочив низины города, зазеленел Домберг, расцвели каштаны и фруктовые сады, в которых лежит Дерпт. Все, все случилось, что случается весной. Мика влюбился в дочь своего квартирного хозяина. Хорват еще усиленнее стал извлекать из своей скрипки нежные мелодии. Профессор химии безнадежно пытался внушить мне гармонии щелочей и кислот неорганической химии и всю прелесть структурных форм органической химии. Я хлопал ушами и только одно понимал твердо, что если зимой химия не просветила моего разума, то на такое просветление весной надеяться почти нечего. Павлик думал почти так же, как и я, и лежал целыми днями на кровати с лекциями по химии на животе, и мечтательно ворковал, о том, что у них, на Дону, скоро уже поспеют черешни.
Весна привела май. Отпраздновали «майнахт» на воде, в лодках, катаясь по Эмбаху. Заехали в Квистенталь – выпили. Заехали в Газенкруг – выпили. Поехали обратно, опять заехали в Квистенталь и опять выпили.
Ясное, майское солнце взошло на бирюзовом небе и, увидя, как мы грузились в нашу ладью, стыдливо прикрылось на минутку розовым облачком. Действительно, зрелище было безобразное: Павлик, вообразив, что он уже влез в лодку, комфортабельно уселся рядом с ней в воду по самое горло и понукал нас: «Садитесь, черти... скорее… уже солнце заходит…» Водка, лодка и пьяные студенты – как будто бы опасно, но дело в том, что лодки рассчитаны именно на пьяных студентов, поэтому и не так опасно. Студент хорошего тона, едущий из Квистенталя, никогда не позволит себе бесстыдно торчать на лодочной скамейке, так называемой «банке», а всегда залезает под эту банку и будет там себя вести скромно до самого прибытия в Дерпт, где уж его выгрузят по всем правилам, установленным портовой практикой.
Прошла майнахт, пришли экзамены, и я провалился по химии. Сдал все экзамены, а по химии – провалился. Дело привычное, но прискорбное, и на этот раз тревожное чувство защемило меня около пупка.
– Мы же говорили…
– Мы же знали…
– Из этого господина ни черта не выйдет…
Я знал, какая скрытая боль будет буравить душу отца, какая обида за сына поднимется в нем и как холодно и серьезно взглянет он при свидании на этого сына. Мама всплакнет… Конечно, досадно, но жизнь бесконечна: что значит какой-то «один» год. Ведь я же получил круглые пятки и только по химии провалился. И не я один, а пятьдесят два человека проперлись по этим окаянным химиям. Наконец, осенью еще дадут право на зачет.
Право дадут, но выдержу ли я этот зачет? Если останусь на курсе, то мне все предметы будут зачтены. Неужели же я за два семестра не постигну этой химии? Постигну, постигну… А год при моем бессмертии ничего не значит.
Весна бодрит, весна – время крепких надежд.
Через неделю я уезжаю в деревню. Сирень уже распустилась, Домберг в цвету, и сладкие ароматы льются в молодой нос, вдыхаются, живят, радуют, и жизнь кажется такой справедливой, бодрой. Неужели же обманет?
Мы втроем – хорват, Мика и я – сидим на высоком валу, заросшем вековыми соснами, против университетских клиник, недалеко от дугообразного мостика, на котором что-то написано.
Хорват выдержал все экзамены. Мика провалился на всех, кроме богословия. О себе не хочу повторять неприятного.
Направо от нас красивая дорожка, рябая от светотеней… и – видение прекрасное… Девушка в темно-синем костюмчике – английская короткая юбочка, английские туфельки, на голове шотландский беретик красный с помпончиком, а лицо… Нет, не опишешь лица, этого прекрасного лица. Молодость не опишешь… Легкой, ловкой походкой, стройная, высокая, с высокой сильной грудью, молодая, даже юная, прошла она мимо нас и ласково, уютно, быстро взглянула или на нас, или на нашу скамеечку – и пропала за поворотом. Взглянула, но на кого?
Люди устроены странно, каждому хочется захватить как можно больше, каждый думает, что май цветет для него одного.
Мне показалось наглым заявление хорвата, что «красная шапочка так и впилась в него глазами». Мика, конечно, сдуру заспорил с ним и сказал, что по законам естественного подбора брюнетка не станет «впиваться глазами» в брюнета и что если она посмотрела на кого-нибудь, то уж, конечно, на него – редкого экземпляра блондинности. Эти ослы совершенно забыли обо мне, выдающемся светлом шатене. Это тем более странно, что только такие идиоты, лишенные всякой наблюдательности, могли не заметить, что эта девушка взглянула именно на меня, и только на меня одного. Ну зачем она станет смотреть на мешковатую, цыгано-молдавано-венгерскую орясину или на какого-то блондинчика с задранными кверху усишками, росточком от горшка два вершка и пропахшего насквозь богословием, когда пред ней предстал, хотя и в сидячем положении, настоящий тип славянского мужества, тем более, что еще и в очках, что придает некоторый налет культурности. Мы поругались. Хорват пошел туда, где скрылась эта девушка – к мосту с надписью. Мика пошел по дорожке, откуда пришла эта девушка, а я остался сидеть на той же скамейке, мимо которой прошла эта девушка.
Вижу, под моими ногами идет другая дорожка, по которой в смешном ракурсе проходили студенты, школьники с книгами под мышкой, пробежала с деловым видом лохматая собака, должно быть, в гости. Подлой, мягкой походкой прокралась трехшерстная кошка, и вдруг… вдруг там, внизу, мелькнуло, обозначилось… и ловкой, легкой походкой заскользила, поплыла, понеслась, не касаясь земли, она, эта девушка…
Если я сейчас сбегу на нижнюю дорожку и пойду ей навстречу, то не будет в этом ничего страшного. Я снова увижу ее лицо, которое описать не могу, потому что я – не Тургенев. Я увижу ее еще и еще раз, потому что она… потому что я молод, и вот потому хочу на нее смотреть. Я ринулся вниз, тыкая каблуками в откос вала, чтобы тормозить свое бешеное стремление. Она подходит к дорожке… Я мчался по откосу. Она была в десяти шагах от того места, где я должен был пересечь ей путь. Черт меня дери, – я зацепился ногой за корень, перевернулся в воздухе и уже на спине выехал на дорожку около ее ножек.
Было ли в это время мое лицо культурным – не берусь утверждать. Тем менее, что проклятые очки слетели с носу и глупейшим образом висели на одном ухе. Законы инерции загибали мои ноги самым пошлым образом кверху, угрожая еще раз перебросить меня через голову…
Эта девушка оказалась смешливой. Правда, когда она обходила мой труп, так безжалостно брошенный судьбой на всякое посрамление, я заметил в ее лице признаки некоторого испуга. Но, когда она удалилась от меня на несколько шагов, вся фигура ее тряслась… увы, не от слез – она смеялась. Отойдя на приличное расстояние, она даже оглянулась на меня, и – я клянусь всем святым для меня – она хохотала. А я стоял жалкий, перемазанный, с очками, висящими на одном ухе, лишенный самого ценного в жизни – чести.
Приведя себя в порядок, я окольным путем побрел к себе, на Аллейнштрассе. Окольным для того, чтобы в третий раз не встретиться с этой девушкой. Я шел и напевал: «Она в блаженстве утопала и над безумцем хохотала…»
Я касаюсь этого факта не потому, что пришло время – и по годам, и по географическим условиям – завести роман… Не потому. Я не собираюсь себя ни в чем прославлять. Я хочу подчеркнуть одну нелепую черту своего характера. Растерянность. Я всегда только сегодня знаю, что надо было сказать вчера. Севши в лужу и почувствовав холод своим задом, я прекрасно понимал, что мне надо было сделать, чтобы не сесть в лужу. Не имея способности чрезмерно высоко ставить свои достоинства, я с прискорбием часто вижу, что люди, несомненно дряннее меня, во многом перешагнули через меня и спокойно шествуют к своему благу. Я часто говорил себе: «Ах, чертовщина, что я прозевал то, что было в моих руках, шло само в мои руки» – и с досады, от глупого гнева творил такое, о чем еще с большей досадой и с большим гневом раскаивался впоследствии. О подробностях этих растерянных поздних мыслей и поступков скажу в свое время.
А пока я шел на свою Аллейнштрассе.
Дня через два мы с Микой прекрасным теплым вечером, почти на закате, по Эмбаху неслись на «Дарлинге» – парусной яхте. Я сидел у румпеля, а Мика валялся на животе, свесив голову за борт. Ровный, крепкий ветерок слегка кренил яхту. Паруса стояли как картонные.
Румпель, как живой, толкал меня в ладонь левой руки. Шкот, завернутый раз за утку, точно влип в правую руку. «Дарлинг» шел гордый, красивый, послушный каждому движению руля.
– Николай! Смотри-ка, какая-то дура попала на камень и сидит на нем, как обезьяна на заборе!
Этот окрик вернул меня к действительности из мира отвлеченных мыслей, которые зачастую вызываются движением.
Я взглянул по направлению Микиного пальца и увидел у противоположного берега небольшую лодочку, которая с разлету выскочила на плоский камень, чуть прикрытый водой. В лодке виднелась женская фигура, которая старалась веслами удержать равновесие, чтобы не перевернуть наполовину обмелевшую лодку. Если я, как уже сказал выше, временами растериваюсь, то временами на меня находит быстрое соображение, особенно в минуты опасности. Крутой поворот лево руля. Грот перемахнуло направо. Мика перебросился животом, и мы пошли к терпящей аварию фигуре попутным ветром.
Когда мы подходили к камню, лодка чуть-чуть не опрокинулась, зачерпнув бортом.
– Стащите меня скорее с камня, иначе я перевернусь… – прозвучал контральтный голос. В голосе звучал некий страх.
– Мика, возьми румпель и обойди кругом камень. Осторожно, к корме лодки.
… Раз, два, три… и я ушел с головой и очками в воду. Вынырнуть, взобраться на камень и крепко схватить за борт беспомощную лодку – было для меня делом одной минуты. Вторая минута ушла на то, чтобы столкнуть лодку на свободную воду.
В это время Мика справился с «Дарлингом» и подходил к нам, то есть ко мне, совершенно мокрому, и к особе, достаточно мокрой, и к лодке, уже на треть наполненной водой.
– Садитесь к нам на яхту. А лодку вашу возьмем на буксир, и скорее в город, пока солнце не село, – командовал я.
Опять: раз, два, три… лодку привязал к свободному концу шкота. Я на румпеле, Мика у кливера, пассажирка на скамейке у килевого колодца. Поворот, обратным галсом* в город – все в порядке. Тут только в первый раз мы взглянули на нашу пассажирку, вытаращили глаза; взглянули потом друг на друга, потом опять на пассажирку и опять друг на друга.
Эта барышня! Она тоже взглянула на меня, на Мику и опять на меня.
– Мы, кажется, с вами уже встречались, – прозвучал ее контральтовый голос.
– Если не ошибаюсь, в Домберге, на верхней дорожке, – поспешил я ответить.
– И, кажется, на нижней тоже, – не без лукавства сказала пассажирка.
– Какой чудный вечер… – заявил Мика. Редкий экземпляр блондинности начал свои дьявольские обольщения.
Мне очень понравилось, что она ничего не ответила на такой, казалось, неотразимый подход.
– Я очень благодарна за вашу готовность помочь мне. Если бы вас не было, мне, пожалуй, пришлось бы выкупаться так же, как выкупались вы.
В глазах ее теплилось хорошее чувство благодарности. По-видимому, она совсем не хотела принимать настоящей ванны. Ножки были мокрые, туфельки совсем раскисли.
А «Дарлинг» уже подходил к пристани, пассажирка была уютная, приятная, простая.
Берег. Она легко выскочила на мостки.
– Еще раз благодарю вас. – Она крепко пожала мою руку: – Рубинштейн.
– Чалеев.
Она быстро пошла по мосту своей легкой ловкой походкой.
– Ничего особенного, – небрежно заявил Мика. – И нос какой-то…
– Прямой, не хоботом, – перебил я его.
...На лето я уехал в деревню.